Зубы дракона. Мои 30-е годы - Страница 5
И еще: она просто помогала выживать – каждому своя культура, в точности по старому рецепту Козьмы Пруткова:
Здесь уже вступали в дело факторы индивидуальные: семейные традиции, образовательный ценз, случайности окружения, возможности получения и проч.
Разумеется, все эти субкультуры вели полулегальное существование на границах культуры официальной; если у них и не было «самиздата», то была своя «неформалка», порой курьезная. Например, у нас в школе учился пасынок Булгакова Женя Шиловский, поэтому мы имели возможность на уроках читать под партой «Белую гвардию» в заграничном, рижском, издании, не говоря уже о «Роковых яйцах» в советском издании. «Дни Турбиных» Булгакова в Художественном театре были любимым спектаклем, мы смотрели его по многу раз (кстати, благодаря тому, что Сталин тоже любил этот спектакль и в 1932 году велел его восстановить).
Другая «неформалка»: после войны мой учитель в Театральном институте Абрам Эфрос, знаменитый искусствовед, знакомил нас с эмигрантскими уже стихами Марины Цветаевой, Владислава Ходасевича и других поэтов. Собственная его судьба была в этом смысле тоже нестандартна. В первые послереволюционные годы он был экспертом по закупке картин в крупнейшей Третьяковской галерее и получил от Ленина собственноручный мандат на приобретение искусствоведческой литературы за рубежом за государственный счет. К нашему времени он давно уже был в опале (отчего и попал к нам в Театральный, где почти все были «бывшие»). Меж тем ленинский мандат никто не смел отменить, и Эфрос исправно каждый год получал каталоги французских издательств, отмечал нужное, и ему присылали дорогие альбомы из Парижа. По этим книгам он знакомил нас с современным искусством Запада, а потом, когда и наш оазис был разогнан и он остался вообще без работы, изредка продавал эти альбомы, чтобы жить.
Таковы были парадоксы и флуктуации советской действительности.
Конечно, все эти субкультуры были так или иначе деформированы тоталитарной культурой.
Приведу другой, сугубо личный, пример. Общеобязательность единой философии и эстетической теории научили меня (как и многих других в моем поколении) избегать философии и теории вообще, оставаясь «при факте», по слову Достоевского, а общие идеи искать в негуманитарном знании (в книгах Эйнштейна, Нильса Бора, Шредингера, Фрейда и других). Разумеется, это существенная деформация, как и отвращение к цитатам, выработка Эзопова языка, отчего в момент перехода неподцензурная культура переболела «кессонной болезнью». Но если бы этих субкультурных явлений не было, то восстановить преемственность и идти дальше было бы невозможно.
Ныне становится реальным – не только фактически, но и эмоционально – изучение тоталитарных культур как системы. Мне кажется это важным, потому что механизмы их действенны, а соблазны велики.
О вкусной и здоровой пище
Из археологии советской еды

Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, так что, спроси нас, б/у советских, меню обеда Онегина, и у нас от зубов отскочит:
Впрочем, как реальная еда это едва ли воспринималось. Скорее натюрморт, отчасти ребус. На вопрос, что ели мы сами, тинэйджеры довоенных 30-х, вернее всего, пожмут плечами. Мы прожили жизнь среди слов-аббревиатур и существительных-времянок, как «зээрка», «церабкоп», «ОРС», «ГОРТ „а“» и «ГОРТ „б“» – едва ли нынче кто опознает в них «закрытый рабочий кооператив», «центральный рабочий кооператив» или «отдел рабочего снабжения». Глаголы к ним звучали не многим элегантнее: «давали», «выбросили», «достал», «отоварился». Обычное «купить» относилось разве что к рынку (в моем случае, жителя Малого Козихинского переулка, что у Патриарших прудов, – к Палашевскому рынку), и если что помнится, то скорее всего лакомства рынка. Жизнь, в существенной степени уходившая на быт, странным образом казалась безбытной. Какой обед нам подавали? Каким вином нас угощали?
Всеобщий салат оливье или селедка под шубой – фавориты послевоенного времени брежневской ущербной буржуазности, «парадокса пустых прилавков и полных холодильников» (Е. Осокина[7]). До войны не то что полных, но вообще холодильников не было. Продавцы льда с тележками тоже постепенно исчезали, и продукты держали между двойными рамами окон, а летом в тазу с водой.
Надо было прожить долгую жизнь, очутиться в Мюнхене, чтобы обнаружить: еда – не только питание, но и любимица СМИ. Что говорить о рекламе, отдающей ей солидную долю своих экстазов, – она полноправный резидент в сетке вещания. Приготовление пищи из мастер-класса стало еще и спектаклем. И состязаются перед камерой не одни Profi. Promi (они же VIPы) тоже не гнушаются поварскими гонками. Намедни топ-модель афроазиатских кровей угощала соперников жарким из страуса, на что экс-футболист ответил перепелами, фаршированными белыми грибами, – слюнки текли.
Постсоветская «социология» еды тоже обновилась, и артисты охотно идут в рестораторы. Даже молодое поколение историков наконец-то обратило внимание на то, что мы успели прожить, как бы не заметив, – на наш непереводимый советский быт. Исследования, оснащенные безжалостной статистикой (Е. Осокина. За фасадом «сталинского изобилия»; Н. Лебина. Энциклопедия банальностей, СПб., 2006, и другие), показали, что всем нам памятная иерархия в распределении благ была лишь иерархией в бедности, а госторговля – эвфемизмом того же распределения.
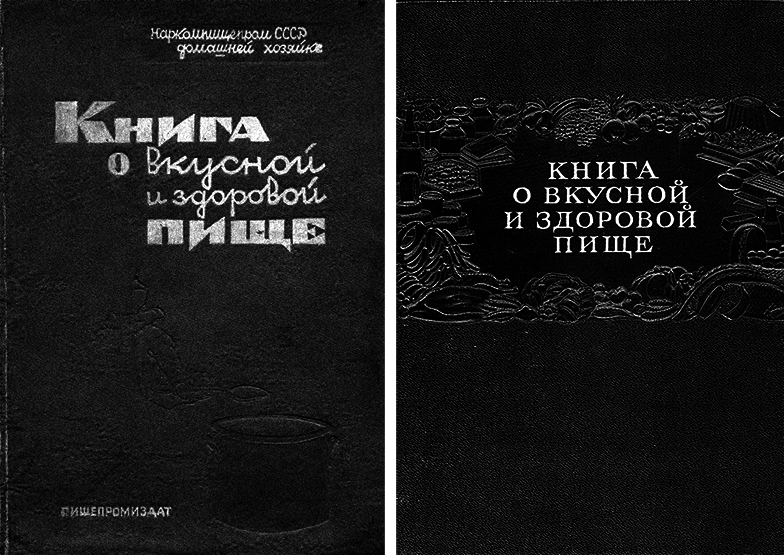
«Книга о вкусной и здоровой пище», издания 1939 (слева) и 1952 годов.
Но статистика – статистикой, а все же хочется задним числом заглянуть на кухни и в тарелки. Ведь жизнь в 30-е была куда пестрее, разномастнее послевоенной – от всяческих «бывших» до сверхновых горожан, вчера из деревни. Ни страты, ни навыки еще не устоялись. Мемуаристам, ясное дело, не до щей и манной каши, но дневники и письма кое-что сохранили. Из археологии советской еды я выбрала четыре свидетельства самого несхожего свойства.
Деревня и периферия
Когда-то на пороге постсоветских времен у меня был семестр в Университете Дюка в Северной Каролине. Профессор Томас Лахузен как раз готовил к изданию тексты уцелевших советских дневников вокруг 1937 года (книга Intimacy and Terror выйдет в 1995-м); мне достались их русские «исходники». Позже я отыскала иные из оригиналов в РГАЛИ.

Дневник крестьянина Фролова Игната, сына Данилова, из деревни Московской области Лукерьино, что под Коломной, представляет нечто вроде месяцеслова плюс краткая местная хроника – вместе уникальное, почти эпическое повествование. На двадцатом году советской власти он датирует свой ежедневник по старому стилю и православному календарю. На первый взгляд, кроме метеорологии и церковных праздников, в нем ничего не найти. «Января 6-го (19.01.37). Богоявление! Погода ведреная, солнечная и тихая, но сильно морозная, градусов на 20. Был сегодня за Литургией в Коломне…» Или: «Марта 24-го (06.04). Погода ведреная… Ночь под Благовещение была звездная и тихая и морозная, по народным приметам к урожаю гороха…» И так каждый день. На самом деле тем же эпическим слогом изложены все крестьянские труды и дни, колхозные и личные («2-й день боронуют…»; или: «…Посадили раннюю капусту…») и все повинности («Сегодня Маня с Тимофеем ездили второй раз на трех лошадях по трудгужповинности…»). А также сдачи и выдачи сельхозпродуктов («…С обеда начали возить навоз с дворов колхозников»). А также купли и продажи в местной «потребиловке» и на базаре в Коломне. Если метеоролог может узнать из этого календаря все о погоде, то экономист и историк могут с тем же почти успехом составить местный прейскурант товаров и цен. К примеру, ржаной хлеб, буханка, – 1.78–2 рубля, белый ситный – 3.30 за кг, белая булка – 36 копеек, соль – 16 копеек за кг, но пачка – 47 копеек, сахар – 4.10 за кг, песок – 3.80. Картошка на базаре – 40 рублей за мешок, капуста – 50 копеек за кг. Яблоки на рынке продавали поштучно, по 35 копеек за штуку, молоко – 1.20–1.40 за литр.