Западно-Восточный экран. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 12–14 апреля 2017 г - Страница 1
Западно-Восточный экран. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 12–14 апреля 2017 года
Посвящается 85-летию со дня рождения А.А. Тарковского
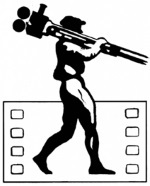
Составитель: профессор кафедры эстетики, истории и теории культуры ВГИКа, доктор филологических наук Мильдон В.И.
На обложке:

Микеланджело, Апостол Матфей, 1505–1506.

Обломок статуи Будды из храма Ват Махатхат, XIV в. Таиланд.
Пределы эмансипации. Освобожденная женщина Востока в кинематографе сталинской эпохи
УДК 791.43.03
Апостолов А.И.,
Москва, главный редактор киностудии им. М. Горького, старший научный сотрудник НИИ киноискусства
В статье рассматривается эволюция подхода к образу «освобожденной женщины востока» в кинематографе сталинской эпохи, предлагается объяснение необычайной востребованности этой темы на рубеже 1920-1930-х и кризиса ее развития в 1940-е годы. Основным материалом для анализа служат фильмы среднеазиатских киностудий указанного периода и картины Дзиги Вертова «Три песни о Ленине» и «Колыбельная».
Ключевые слова: восток, женщина, эмансипация, Сталин, эволюция.
The limits of emancipation. The liberated women of the East in the cinema of the Stalin era
The article describes the evolution of the approach to the image of the “liberated women of the East” in the cinema of the Stalin era, provides an explanation for the extraordinary relevance of this topic at the turn of the 1920-1930-s and for the crisis of its development in the 1940-ies. The main material for analysis are the films of the Central Asian film studios of a specified period and Dziga Vertov’s movies “Three songs about Lenin” and “Lullaby”.
Key words: east, woman, emancipation, Stalin, evolution.
Вряд ли в советском «немом» кинематографе второй половины 1920-х годов найдется тема, сравнимая по растиражированности или, проще говоря, по числу обращений, с темой раскрепощения женщины советского востока в результате Октябрьской революции и последовавшего за ней коренного преобразования во всех сферах социальной жизни. Причины такой востребованности кажутся вполне очевидными: именно восточная женщина представала в коллективном воображении в качестве наиболее закабаленного и бесправного в дореволюционную эпоху существа. Стало быть, чем более унылой и безысходной выглядит дореволюционная доля избранного представителя угнетенных, тем разительнее будет позитивная метаморфоза его положения в результате пореволюционных реформ и радения новой власти.
У советского агитпропа вряд ли мог отыскаться более подходящий сюжет для наглядной демонстрации претворения в жизнь коммунистического императива «кто был ничем, тот станет всем», чем эмансипация восточной женщины. По словам специалиста по истории среднеазиатского кинематографа Г. Абикеевой, «советской власти <…> было необходимо показать «освобожденных женщин Востока». <…> Необходимо было изобразить непокорных жен, протестующих против традиционного уклада жизни, – появлялось множество фильмов, где женщина уходила от мужа, уезжала учиться и т. д. Все это соответствовало основной линии идеологии большевиков по эмансипации женщин»[1].
Разумеется, образ раскрепощенной социализмом женщины занимал отнюдь не последнее место и в иконографии русской советской кинематографии, но все же в Средней Азии эта тема была единственно магистральной, в то время как в советской России – одной из. «В советском кинематографе разработка женских образов во многом связана с попыткой исследования, воплощения тех колоссальных, невиданных перемен, которые произошли в самосознании личностей в процессе становления советского государства. <…>Но если фильмы русского кино, такие как «Мать» Вс. Пудовкина и «Член правительства» Н. Зархи[2] и И. Хейфица, поставили эту проблему в ряд с другими, то в среднеазиатском кинематографе воплощение женского образа стало центром и средоточием проблематики, так как давало лучшую возможность для наглядного отображения сущности происходящих исторических перемен»[3].
Одной из причин, спровоцировавших экзальтированную возгонку данной темы стала неожиданная проблема, с которой столкнулось большевистское руководство в работе с так называемым «внутренним востоком». Речь идет о быстро обнаружившемся отсутствии местного пролетариата. Это зияние на месте центрального субъекта революции не могло не превратиться в своего рода «фундаментальную нехватку» с точки зрения легитимации советской власти во всем регионе. На проблему отсутствующего пролетариата на окраинах империи, не успевших к моменту революции добраться до капиталистической ступени в формационной лестнице общественных укладов, обратил внимание и Ленин. Предложенное решение было по-своему парадоксальным и предваряло советское отношение к послевоенным антиколониальным национально-освободительным движениям. По сути, было решено «пролетаризировать» те нации, в которых отсутствовал рабочий класс, практически целиком, в силу их якобы пролетарского положения по отношению к нациям-гегемонам. «Отсталые нации не достигли еще «дифференциации пролетариата от буржуазных элементов». <…>
Однако в силу их общего угнетенного положения, все они являлись пролетариями по отношению к более «культурным» нациям. При империализме как высшей и последней стадии капитализма колониальные народы превратились во всемирный эквивалент западного рабочего класса»[4].
Итак, если «отсталые» (это расхожее в 20-е годы определение полностью исчезнет из политического обихода в следующее десятилетие) нации наделялись пролетарским статусом, то «восточницы», или «националки», как называли в ту пору восточных женщин, как особо угнетенные представители наций-пролетариев, в один момент превратились в самых пролетарских пролетариев из в принципе возможных[5]. Это различие степени раскрепощения по гендерному признаку прекрасно показано в либретто фильма «Три песни о Ленине» (Д. Вертов, 1934): «Ленин – гигант и любимый Ильич, близкий друг и великий вождь», и «Ленин влил в каждого из нас по капле своей крови» – вот как рисуется образ Ленина раскрепощенным туркмену и узбеку. Вот как он рисуется вдвойне и втройне (курсив мой – прим. А. А.) раскрепощенной женщине Советского Востока»[6]. Таким образом, в новых исторических декорациях прежняя предельная угнетенность оборачивалась залогом нынешней привилегированности.
Партийные идеологи видели в восточной женщине свой потенциальный актив в советском Туркестане, ибо ожидали всецелой поддержки от угнетенной веками рабыни, которой, согласно неодолимой логике классовой борьбы, было нечего терять, кроме своей паранджи. «Женщины-мусульманки занимали центральное место в большевистском анализе среднеазиатского общества в 1920-е гг. и в выработке позиций большевиков по отношению к нему. С точки зрения Москвы, казалось само собой разумеющимся, что такие женщины, находясь под гнетом традиционных мусульманских кодов поведения, согласно которым они должны были носить чадру и сидеть взаперти, представляли собой потенциально главных союзников в деле революции. В 1927 году такой анализ привел московских представителей к тому, чтобы спровоцировать худжум [“нападение”], лобовую атаку на систему затворничества женщин, которое, как надеялись, мобилизует женщин-мусульманок»[7].