За что? - Страница 3
В марте 1935 года арестованная Анна Баркова пишет наркому Ягоде:
«В силу моего болезненного состояния и моей полной беспомощности в практической жизни наказание, в виде ссылки, например, будет для меня медленной смертью. Прошу подвергнуть меня высшей мере наказания…»
Поухмылялся нарком и отправил строптивицу в Карлаг. Это было для нее наказанье — жизнью. Такой уж характер. Песню «Дан приказ: ему — на запад…» написала не она. Там комсомолка желает возлюбленному «если смерти — то мгновенной…» Баркова писала круче: «Пожалей меня — пристрели!» — если враги не добьют. Для этой души лагерь оказался тем, чем для «кучерявых лириков» наших — дом творчества.
…Невольно продолжаю то, что писал по поводу Юзовского и «мыслящей пыли». К ней, тучами летящей над казахскими степями, принадлежала и Баркова. С пылью и песком когда-то хотели смешать другого строптивца — «малоросса Шевченку», который мог бы быть «повторником», если б в его времена, когда еще помнилось римское право (дважды не наказывать за одно деянье), к нему применили бы советское. Вернувшись в Петербург, он читал свою «преступную» поэму великолепной Екатерине Дадиани, как бы возвышаясь над бронзовым кумиром с бабьим лицом:
Перед державцем полумира, «що розпынав» не одну Украину только, но и другие окраины с Россиею вкупе, возникал не безумец с раздвоенной душой и даже не поэт его… не «певец империи и свободы» (по определению Г. Федотова), но человек великой и цельной души, не желавший снимать с себя ни крепостных пут, ни каторжной цепи, — пока эти прелести имели место в его времени. Недаром перед Кобзарем клонил колени Некрасов… Но пример очень уж хорош «для жизни». Такие люди рождаются, может быть, раз в тысячу лет — с душой, равновеликой дару.
И это, оказывается, было ему ведомо. Ахматова:
Но такова лишь небольшая часть этого помёта, простите, — второго поколения убийц и охранников, лгунов и доносчиков. Большая часть носит истаявшие глаза, сухие и хищные. Кто не может — пока! — убивать и достигать служебных высот этим ремеслом, пробавляется мелкими пакостями. Так или иначе, яблочко от яблони недалеко падает.
У нас нет ни полиции нравов, ни института их. Был бы таковой — была бы в нем кафедра, скажем, «Отцы и дети». И тогда лихое поколение власть предержащих негодяев было бы посмирнее… Но не о них речь. В наш том не вошло еще многое, что безусловно относится к «репрессированной» литературе, но написано уже вторым, третьим поколением — теми, кто в лагерях не побывал. И тут бывают поразительные вещи: дочь пишет… стихи отца, который знал, что «смерть — не самое страшное», и вовремя выкинулся из окна Лубянской крепости. Первое поколение, сколько б ни оставило нам свидетельств из первых рук, — еще больше оставило Заветов и Поручений.
…Заросшая дорога, когда-то наезженная, долго и полого спускается кряжем в болотину. Старая гать еще держит ногу: березовые жерди, совсем черные, каменеют десятки лет. Новый слабый подъем, новый спуск, и уже слышится шум ручья — запруда? Валуны не пускают цветущую поверху воду, лишь в одном месте она падает туда, где когда-то принимал ее желоб — с разгона била она в лопатки мельничного колеса. Колесо еще цело, цел сруб и даже кровля, крепко, видимо, просмоленная. Ворон, кромешно-черный, сидит на коньке и не боится меня: хозяин…
Человек помнит зло, но долго злиться не может. Фольклор постепенно преображает лютого зверя в серого волчика, приговор делает из убийцы — несчастного… Зло со временем потеряет отчетливость, интерес к нему, и без того специальный, будет угасать — согласно той малой содержательности и примитивности побуждений, коими зло вызвано. Даже если землю взорвут — то взорвут ее за копейку. А если завалят отходами себялюбивой жизни — то из простого неряшества и по глупости. Какая тут глубина? Глубина плевая.
Зато необходимо на первый план выдвинется каждое тайное доброе побужденье. Каждое лицо. Каждый поступок порядочного человека — в тех сказочно-диких условиях, становящихся постепенно задником и фоном.
Может быть, это имел в виду Варлам Шаламов, проклявший лагерь и считавший бросовым наш лагерный опыт? Заново, уже как писатель, пережив каторгу и «задник» тот прописав в леденящих его подробностях, Варлам Тихонович довершил свой Подвиг. И это есть первый план и главный смысл его жизни.
Юный Мандельштам, пораженный архитектурой готических соборов, где изнутри проявлены все ребра сводов, а снаружи — все колонны и держаки контрфорсов, где царит и красуется грубая функциональность, обещал когда-нибудь создать Прекрасное «из тяжести недоброй» (стихи о Нотр-Дам).
Таков, мне кажется, и путь наших мартирий через время.
В самом начале Книги Иова, во второй главе, есть искупительный стих, потерявший свою глубину в синодальном переводе, а на древнерусском звучащий так:
Он сгодится нам на каждый день. А его невольный перевод можно прочесть у Пушкина:
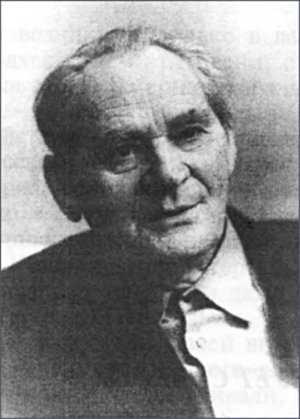
Борис Чичибабин. Пока существует совесть
Борис Алексеевич Чичибабин (Полушин) (1923–1994) — выдающийся русский поэт. Родился в г. Кременчуге, на Украине. Стихи начал писать со школьных лет. В 1946 году, будучи студентом Харьковского университета, Борис Чичибабин был арестован и осужден «особым совещанием» за антисоветскую агитацию. Лубянка, Бутырка, Вятлаг. После освобождения в 1951 году многие годы служил бухгалтером и на разных случайных работах, не прерывая интенсивного поэтического творчества.
Первые книги вышли в 1963 и 1967 годах. А затем — новые гонения. В течение 20 лет Чичибабин не увидел ни одного своего слова в печати, был исключен из Союза писателей. Только в 1989 году, при «перестройке», после взрыва его журнальных публикаций и выхода сборника «Колокол» состоялось настоящее открытие поэта для читателей — а с ним пришли широкое признание и известность.
Публикуемый текст Бориса Чичибабина — вступительное слово к этой книге — последнее, что он написал за месяц до кончины.