Вначале был звук - Страница 1
Андрей Макаревич
Вначале был звук: маленькие иSTORYи
© А. Макаревич, 2010
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2010
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)
Вначале был звук
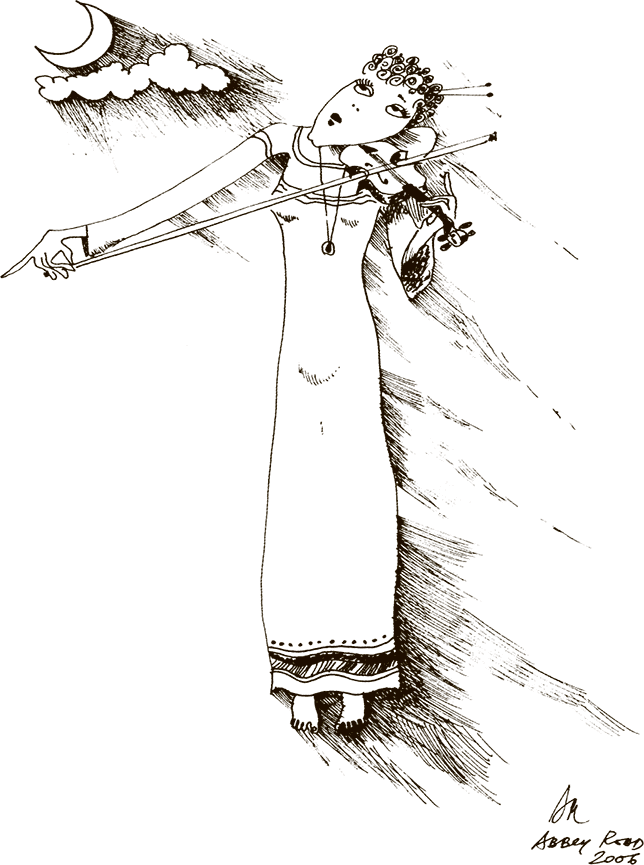
Каждый из нас когда-то слышал, что восемьдесят процентов информации поступает человеку через глаза. Не знаю, кто автор этой сентенции. И каким об разом производились подсчеты. И вообще, что имеется в виду под информацией. Если исключительно содержащаяся в тексте – тогда да, конечно. Восемьдесят процентов – через глаза. А оставшиеся двадцать – через уши, по радио. Но мне кажется, что понятие «информация» – гораздо более широкое. И шум дождя сообщает тебе о том, что идет дождь, ничуть не хуже, чем круги на лужах, видимые глазами.
А теперь представьте себе железнодорожную катастрофу, которую вы наблюдаете с небольшого расстояния. Представили? А теперь разделите изображение и звук. Разделили? А теперь прокрутите перед своим внутренним взором сначала картинку, а потом ее звуковое сопровождение. И ручаюсь вам: картинка без звука оставит вас вполне равнодушным, а звук без картинки приведет в ужас. И если это так, то что тогда главнее?
Все мы знаем, как может напугать нас неожиданный громкий звук. Даже самый простой, вроде лопнувшего шарика над ухом. Что-то я не могу представить себе какую-либо неожиданную картину, способную нас напугать – если она лишена звуковой поддержки. Даже привидения в фильмах-страшилках режиссеры заставляют выть. Хотя настоящие привидения выть, наверно, не умеют.
Ночью мы спим. И глаза наши спят. А уши – нет. И будит нас звук. Странно, правда?
Если мы не хотим что-то видеть, мы закрываем глаза. Не руками, нет – у нас есть веки. А на ушах век нет, и руками затыкать их весьма неудобно. То есть природа разрешает нам иногда оставаться без зрения, и не разрешает без слуха. Значит, что с точки зрения природы важнее?
Возможность видеть мы получаем, появляясь из утробы на свет, да и то первые месяцы наблюдаем картину вверх ногами. А звуки начинаем слышать значительно раньше – на девять месяцев. Мой сын вел себя в животе у матери очень беспокойно, но неизменно затихал, как только начинала играть громкая хорошая музыка.
И вообще – если вначале было Слово, то Слово это было произнесено, а, скажем, не написано: не на чем еще было. Звук? Звук.
А восемьдесят, значит, через глаза? Ошибочка, граждане!
Если убедил – пошли дальше.
Звуки детства
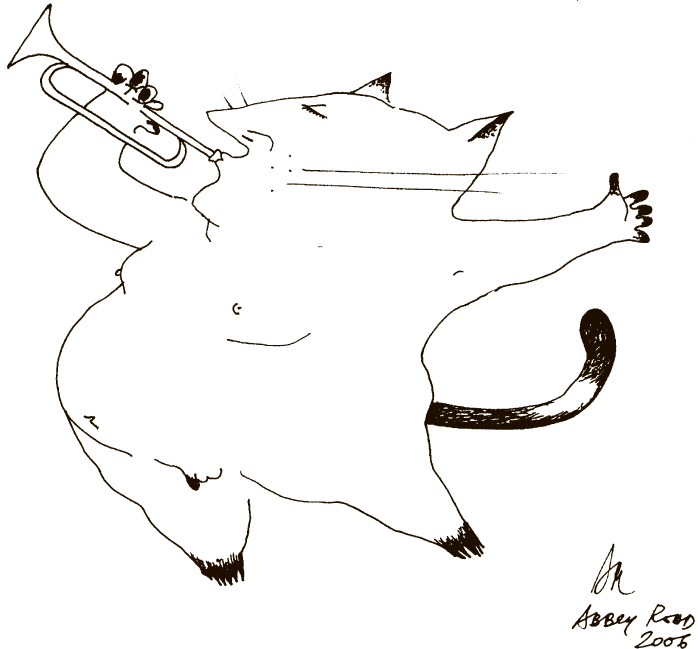
Пытаюсь нарисовать картину из звуков своего детства, роюсь в памяти. Радиоточка. Или трансляция. В общем, радио. Эта пластмассовая коробочка стояла в каждой квартире, в каждой столовой, в любой парикмахерской. Коробочка всегда была желтая или розовая – веселенького цвета. На фасадной ее стороне располагалось окошко для динамика, затянутое веселенькой же тряпочкой и одна ручка – включение, она же громкость. Сзади – картонная крышка с круглыми отверстиями и провод. Провод вставлялся в специальную розетку – как для электричества, но поменьше, чтобы не перепутать. Все.
Сколько я помню, коробочка всегда и у всех находилась во включенном состоянии. Могло быть тише или громче. Коробочка вещала. Текстовая составляющая проходила мимо меня, не оставляя следов (в три-то года!). Разве что застревало в голове какое-нибудь непонятное слово («Телефон: Миусы Д-1…» Какие такие миусы? До сих пор мучаюсь.). В десять утра сажали слушать детскую передачу. Заставочка: на пианино, наверху, незатейливо – «Мы едем-едем-едем в далекие края…» И сразу, фальшиво-добрым старческим голоском: «Здравствуй, мой маленький дружок! Сегодня я расскажу тебе сказку…» Не нравилось: дядька кривлялся. Все равно слушал. Выбора не было. Иногда в передаче появлялось двое детей – кажется, Мишенька и Машенька. Я понимал, что это ненастоящие дети, а две взрослые тетки – одна, с голосом потолще и, наверно, сама поздоровее – за Мишу, а вторая, совсем писклявая – за Машу. От них было еще противней. Иногда приходил Захар Загадкин, пел песенку, загадывал детям загадки. В 11.00 – «Доброе утро, товарищи! Начинаем производственную гимнастику! Первое упражнение – потягивание. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч – и (под пианинку) раз, и два …»
Бедные мы, бедные.
В воскресенье, правда, было повеселее (может быть, потому что родители были дома – уже праздник!). Воскресная передача «С добрым утром!» Песня: «Друзья! Тревоги и заботы сегодня сбросьте с плеч долой – чем тяжелей была работа, тем краше день твой выходной! Воскресенье, день веселья, песни слышатся кругом – с добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем!». Пелась задушевным, почти человеческим голосом.
Ну да, выходной был один – в воскресенье.
А живые, человеческие голоса звучали из трансляции очень редко. Дикторы говорили не как живые люди – медленно, торжественно, и с какой-то совершенно особенной интонацией, которую ни описать, ни воспроизвести не берусь (кончилось это, кстати, совсем недавно – с появлением FM. Нет, раньше: Виктор Татарский с опальной передачей «Запишите на ваши магнитофоны». Он уже говорил по-другому. Но до этого еще двадцать лет.) В трансляции иногда пели: мужчины – патриотические и военно-патриотические песни, женщины – русские народные. Мужчины пели грозно и утробно, женщины – как бы веселясь, специальными русско-народными голосами, с завитушками в конце фраз. Пытаюсь понять: почему мне, маленькому, не нравилось. Так вот: клянусь, я чувствовал, что они притворяются, поют не так, как хотят, а как надо.
Дети ведь очень здорово чувствуют фальшь. Лучше взрослых.
Неудивительно, что когда вдруг появлялась песня с человеческой мелодией и спетая человеческим голосом – она сразу становилась народной – на таком-то фоне. «Ландыши», «Я люблю тебя, жизнь», «Подмосковные вечера»… У всех этих песен была непростая судьба – советско-партийное руководство сопротивлялось, искало пошлость, не пускало в эфир – кожей чуяли человеческое, собаки. Слово «сексуальность» применительно к артистке было просто немыслимо – даже «женственность» не очень приветствовалось – не время, товарищи! Поэтому певицы в лучшем случае изображали таких дурочек с бессмысленной улыбкой и легким покачиванием головой – остальные детали тела должны были оставаться неподвижными. Мужским певцам полагалась поза а-ля Кобзон – ноги на ширине плеч, руки по швам. Когда (двадцать лет спустя!) появился молодой Валерий Леонтьев, который просто не мог стоять на месте, его на экране до пояса закрывали какой-нибудь декорацией – картонным кубом, например, чтобы не было видно, как он вертит попой. С добрым утром, товарищ Лапин! Об этом можно написать отдельную книжку.
Сейчас перечитал и ужаснулся: вроде как жил маленький мальчик в глухой ненависти к окружающей звуковой среде. Нет, конечно – какие-то вещи завораживали: голос молодой Эдиты Пьехи в сопровождении ансамбля «Дружба», вокальный квартет «Аккорд», волшебное пение грузинского ансамбля «Орэра». Еще кое-что, о чем ниже. Просто они все были в меньшинстве, вываливались из общего фона.
Приходил с работы отец, садился за пианино. Пианино называется «Красный Октябрь», оно одето в серый льняной чехол. Отец приподнимает чехол, открывает ему пасть, полную белых и черных зубов, пробегает по ним руками. Здорово. Я хочу играть как отец, но понимаю, что это невозможно – руки у меня в два раза меньше, и я еле-еле достаю до клавиатуры носом. Единственная пьеса, которую я могу исполнять – «Гроза». Для этого надо положить много книжек на стул – для высоты, потом на них забраться, открыть тяжеленную черную крышку. Пьеса «Гроза» – импровизационная, я придумал ее сам. Клавиши справа от меня – самые высокие – изображают молнию, клавиши слева – низкие – гром. Все что посередине, между ними – это, видимо, дождь и вообще течение жизни. Я недоволен своим исполнительским мастерством, поэтому играю пьесу «Гроза» сам для себя, днем, когда никого нет дома и никто не слышит (няня не в счет, ей неинтересно). Приходила подружка со двора – Оля. Оля старше меня года на два, няня ругается, говорит, что она шалашовка. Не знаю такого слова, проникаюсь уважением. Оля показывает мне, как играть на пианино собачий вальс. Мне не нравится – там все время по черным, противно. И вообще отец играет лучше. Собачий вальс не пошел.