В лесах счастливой охоты - Страница 10
Овцу привязали к столбику, и щенок спал вместе с ней.
Он был совсем ещё маленький и отползал от овцы только на длину своего хвостика.
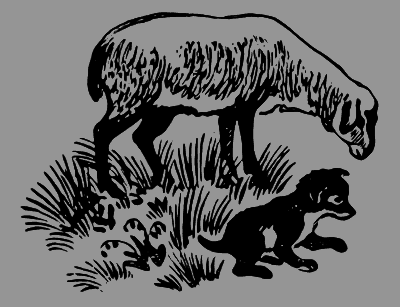
Щенок быстро рос. Скоро овцу опять пустили в стадо. Кара-Баш, толстый, как головка овечьего сыра, покатил за ней. Так они и жили вместе — овца и собака.
Прошло два года.
Кара-Баш стал самым большим и самым сильным псом в своре. Силой и смелостью он был в свою родную мать. А от приёмной матери — овцы — он унаследовал слепую преданность стаду.
На лето чабаны опять пригнали отары на горные луга. У овец начали родиться ягнята. Родился ягнёнок и у приёмной матери Кара-Баша. Кара-Баш до сих пор помнил свою приёмную мать и отличал её в стаде. И она позволяла ему обнюхивать своих ягнят.
Барс не оставлял кочёвку в покое.
Он с каждым годом всё больше узнавал человека и все больше наглел.
Барс напал ночью, когда ружья чабанов были для него не страшнее простой палки.
Заблеяли, заметались в ужасе овцы, остервенело залаяли псы, со стуком покатились камни. Чабаны палили из ружей в тёмное небо и орали на все голоса.
Утром увидали: на дне оврага лежал Кара-Баш. Рядом стояла овца. Жёлтая шкура пса была красной. Он лежал на брюхе, уткнув морду в лапы. Овца стояла рядом и толкала его мордочкой в бок. Под передними лапами Кара-Баша лежал помятый барсом ягнёнок. Он был жив, но голова его плохо держалась на тонкой шее. Пёс прикрывал его своим телом.
Недалеко за кустом скрючился мёртвый барс. На белом горле его расплылось большое красное пятно. Он уже застыл. Кара-Баш был плох. Вытек глаз. Разорвана губа. Прокушена и сломана нога. Вся шкура исполосована глубокими рваными бороздами.
Чабаны хотели пристрелить Кара-Баша, чтобы не мучился, но старик чабан не дал. Он взялся его выходить. Как когда-то в детстве, он стал поить его овечьим молоком. Собаки зализали ему раны. И Кара-Баш выжил.
Разговоры, разговоры — нет им конца! Уж и петух прокричал. Странно слышать петушиный домашний голосок тут, среди диких гор.
Чабан положил уголёк в самодельную трубочку и засопел.
— Якши собак! Хорош собак! — говорил он, пуская дым и щурясь в угол, где спал обезображенный пёс.
Кара-Баш спал неспокойно. Он то взвизгивал, то вдруг начинал сучить лапами. Он видел плохие сны.
— Другие псы совсем дурной — на чикалку[1] брешут, — жаловался старик. — А Кара-Баш спит — значит, всё спокойно. Красивый собак!
Утром встали поздно. Старик чабан с собаками уже погнал стадо на выпас.
В углу сарайчика увидели мы пятнистую барсову шкуру. На шкуре котёнок катался — играл с ящерицей. По земляной крыше затопотала коза — сухая земля посыпалась на голову.
Мы вышли. Петушок взлетел на сарайчик, похлопал в крылья и, прокричав своё кукареку, склонил голову набок. Он прислушивался, откуда ему ответит соперник. Соперник ответил с высоких скал. Петушок поскрёб землю коготками и закричал опять. Он так и не понял, что отвечало ему только эхо.
Как весеннее курчавое облако, медленно ползла по гребню горы отара. Позади отары, покрикивая и посвистывая, шёл старик чабан. А впереди стада, опустив тяжёлую голову к земле, медленно брёл Кара-Баш.
Против солнца было больно смотреть. Кара-Баш казался окружённым сиянием. Издали не видно было его страшных шрамов. И огромный пёс был похож на могучего льва.
Я видел и чувствовал, как он красив!
Медвежья услуга
Самое неприятное при работе в горах — туман. Нахлынут облака, затопят ущелья, выползут на хребты и закроют всё: вниз до земли, вверх до неба.
Кажется, что весь мир утонул в глухом тумане: ни шума потоков, ни света солнца. Где право, где лево? Где север, где юг?
Сидишь в палатке и ждёшь погоды.
Вниз на базу спускаться не хочется: вдруг прояснит! Спускаться да подниматься не просто: на иную гору два дня на четвереньках лезешь.
Вот так и вышло у нас однажды. На день работы осталось, нахлынул туман. День просидели, — кончились консервы. На второй день — крупа. На третий доели сухари. Остались у нас одна соль, перец да лавровый лист.
А туман дразнит. Поредел, но не поднимается.
Ждать больше невтерпёж — так есть хочется. И вниз спускаться обидно: вот-вот туман разойдётся!
— Бери ружьё, — говорю я товарищу. — Поброди по склонам, может, подобьёшь что.
Товарищ ушёл, а я залез в палатку и попытался заснуть. Желудок хотел обмануть. Говорят: «Кто спит, тот обедает». Но желудок в горах на чистом воздухе на обман не идёт!
До полудня ворочался я с боку на бок. Потом встал, петь начал. «Может, — думаю, — про еду забуду».
Забудешь тут! Не ладится песня. Вместо песни голодное ворчание выходит.
А туман всё реже, всё реже. Уже вверху, в серой мгле, синие и жёлтые пятна проступили — значит, скоро откроются небо и солнце.
Вот чуть видные хребты стали надвигаться со всех сторон — так всегда кажется, когда расходится туман.
Вот и все горы видны — чистые, будто вымытые. И опять стал слышен шум потоков и засияло солнце. Работать можно, а товарища всё нет!
И есть так хочется, что стал я посматривать на сыромятные ремни от вьючного седла: а что если попробовать заварить их с лавровым листом да с солью?
На счастье, вижу: идёт товарищ. За спиной рюкзак раздулся — значит, добыл что-то. Он ещё далеко, а я кричу, выпытываю:
— Сколько патронов выстрелил?
Отвечает:
— Ни одного.
Опустились у меня руки.
— Так что ж ты, — говорю, — мешок-то травой набил, что ли?
— Ну да, травой, — отвечает.
— Ага, — говорю, — очень хорошо! Добавь тогда к своей траве ремешки от седла, объедение будет.
— И будет, даже и без ремешков.
Посмотрел я на него: уж не спятил ли он с голода?
Плюнул и пошёл к ручью: хоть воды напьюсь, лоб помочу.
Одно остаётся: скорей коней вьючить — и вниз, на базу. Экая досада! И тумана нет, а спускаться придётся.
Поднимаюсь я к палатке и вижу: товарищ раздул огонь, поставил на костёр котёл с водой, а сам режет и чистит какие-то корни и стебли; у него их полный мешок.
— Это ты что затеял? — спрашиваю его осторожно.
— Борщ варю.
— Какой борщ?
— Медвежий.
— Ты не шути, — тихо говорю ему. — Я голодный!
— Тогда не кипятись, а мне помогай. Пока почистим, я тебе кое-что расскажу.

Я подсел помогать, а он мне рассказал вот что.
Утром в полукилометре от палатки наткнулся он на след старого медведя. След был такой свежий, что на мокрой траве висели ещё капельки грязи. Товарищ вложил в ружьё патроны с пулями и пошёл по примятой траве.
Медведь шёл по скату, переворачивая камни, раскапывал мышиные норы и гнёзда земляных ос.
Долго лазал товарищ по скату в тумане, распутывая медвежий след. Из сил выбился.
Сел на камень, сорвал лопушок мягкий, как байковый, вытер лопушком пот и бросил. И вдруг видит, что рядом с его лопушком ещё сорванные лопушки валяются и измочаленные стебли-огрызки. А на огрызках и слюна зелёная не высохла. Медведь лакомился!
Совсем близко медведь, а товарищу не до него, так есть захотел. Сломал он такой же стебель, что медведь жевал, попробовал — ничего, даже огурчиком пахнет.
«Шут с ним, — думает, — с медведем! Где его в тумане найдёшь? Переключусь-ка я на медвежий корм, вон медведь какой с него здоровый — след шапкой не закроешь!»
Так и сделал. Найдёт огрызок, присмотрится, с какого растения, сорвёт, попробует — ничего, кисленько! — и в мешок. В одном месте корни какие-то раскопал медведь, — товарищ и корней набрал. Медведь-то старый, всё в лесу знает — всякую траву съедобную, каждый корешок.
Товарищ целый мешок кореньями, щавелём да стеблями набил.
— Сейчас такой борщ закатим — медвежий! — закончил он. И засыпал зелень в кипяток.