Уж на сковородке, или Слава богу, вынужден жить! - Страница 5
Интересно, а если бы среди русалок появилась Та самая Русалочка, женился бы на ней принц или нет? Бросил бы его революционный матрос Железняк в воду, а Русалочка спасла. Злобная, жадная, стареющая бизнес-вумен присвоила отреченного от престола принца и на себе женила. Русалочка ни травить, ни убивать, ни воровать, ни убегать – не умеет. Принц вовсе брутальности лишен. Посмотрели бы деревенские бабы про это сериал, поплакали, собрались у колодца и порешили б: принца украсть, привесть к Русалочке, вуменше шары повыжечь, новой паре всем миром хату выстроить с бассейном. Кто знает, какие дети будут. Я думаю, у них бы все получилось, у баб, соответственно, и у Русалочки с Принцем. Все же, в некоторых смыслах Октябрьская революция принесла пользу – больше сказок с хорошим концом.
Сказка о малиновом звоне
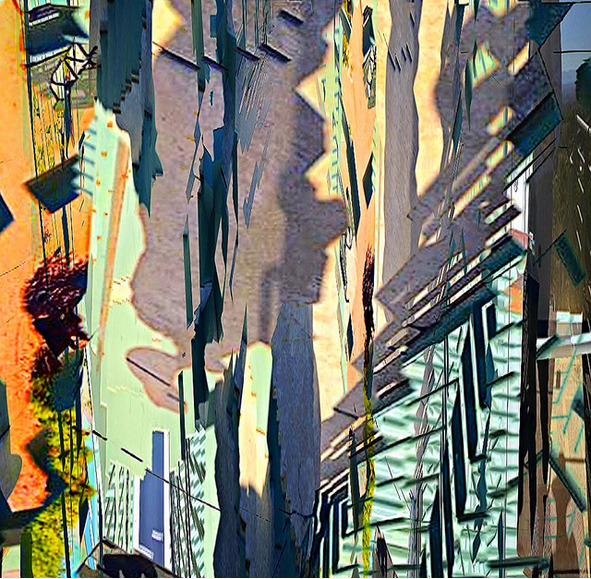
Было это во времена, когда еще не только радио не было, но даже о патефоне никто слыхом не слыхал. Хорошее было время, все сами пели по любому поводу и при любой необходимости. Бросил любимый, запела любовную страдательную: «Тут не одна трава помята – помята девичья душа». Ходит он, подлец, налево – частушечку ему в самую селезенку: «А мне милый изменил, а я не опешила, в переулочке догнала, и п… инков навешала!». Ушла ненаглядная из жизни: «Не житье мне здесь без милой, с кем пойду я ко венцу?…То мое сердечко стонет, то душа моя болит..». Смотрит люба на другого: «Я свою милку посажу на вилку, ножик ей приставлю, танцевать заставлю». Весело, ладно живут: «Мой муж – арбуз, а его дыня, напьюсь, повалюсь, он меня подымет». Забрала парня война: «Полети ты, черный ворон, к родной матушке моей…». Заболел: «Уйди хворь, тоска, кручина во сыру землю». Нет писем, нет дождя… Умели люди и душу облегчить, и ситуацию поправить, природой и погодой, жизнью своей управлять.
Неладное случилось, когда пошли Иван да Марья в лес, за малиной. Пошли и заблудились. Бродили-бродили, дело к вечеру, вроде мелькнет место знакомое, вот выйдут, ан, нет, снова леший завернет. Солнце садилось, сырость ложилась, да туман так нехорошо заклубился. Уже и филин похохатывал, и мыши летучие мелькали, когда Марья оступилась, покатилась в овражек и Ивана за собой потянула. Овражек глубоконький оказался, ежевика по краям колючая, пока донизу докатились, в кровь ободрались. Полежали, колючки вынули, на царапины друг другу подули и пошли наверх выбираться. Шли в темноте, молитву читали, нечистого отвести. Христом Богом вышли. Видят, что-то в темноте светится, неужто волки? Побежали в другую сторону, и там то же. Решили, будь – что будет, помолились, стали смерти лютой, неминуемой ждать. А она не идет. Что за чудо? Замерли волки со всех сторон и ни на шаг – ни взад, ни вперед. Ребята они были отчаянные, решили сами идти – все лучше, чем в страхе мучиться. Только, чем ближе к огням подходили, тем огни больше, а волков не видно. Что за диво? Долго ли, коротко ли, вышли на дорогу. Дорога асфальтированная, фонари электрические. Но они-то об этом не знали, потому как отродясь не видали. Потряслись, молитву пошептали и пошли по шоссе. Дорога – она везде дорога, сама приведет куда-нибудь. Она и привела, в стольный град какой-то. Шум, как на ристалище, вонища, как на капище, суета, как в судный день.
– Выходит, Машенька, умерли мы с тобой?
– Отчего же в ад нас, Иванушка? Неужто так грешны? Плачет захмарено небо! Плач душа – плач мое сердце! – запричитала Марьюшка.
– Что ты, Маш, сама по себе плачешь?
– По нам, – шмыгнула носом дева.
– Зачем? О нас родные поплачут. Мы с тобой тут вместе, а они там одни, без нас.
– И то верно. Значит, не совсем пропащие, раз вместе разрешили.
Не стану рассказывать, чему дивились, чего пугались, о том много писано. Скажу, как из беды выручались. Посидели, порядили и порешили, что хоть и померли, хоть и в аду, а жить как-то надо и с чертями ладить. С чертями трудней всего. Дома-то почитаешь заговор от нечисти всякой, она и сгинет, запоешь песенку, домовой заслушается, глядишь, и в дому ладно. А эти – и не глухие вроде, и слова русские понимают, а не разумеют.
Поселились Иван да Марья в маленькой комнате, в цокольном этаже огромного дома, похожем на муравейник. Черти им выделили комнатушку, метелки, шланг для поливу, лопаты снег сгребать и бумажек цветных немножко (они их «деньги» называли). В муравейнике этом и жили черти как муравьи, не только в смысле скученности, но и в смысле распорядку. Одни как трутни, другие как солдаты, третьи как королевы. Работа же основная у бесов известная – мучить. Одни детишек в школах терзали, другие взрослых на заводах непосильным трудом, третьи химической едой грешников травили. Нашим героям самое легкое мучение было, не зря Маша говорила, что они не совсем пропащие. А, может, не понимали бесы, что работа для них не наказание, думали, что всякий мусор собирать – самое большое унижение. Иван же, напротив считал, чем чище кругом благодаря его стараниям становится, тем ему лучше. И землю они с женой любили, цветочков кругом насадили, хотя в адском пекле те росли плохо, и тротуар с радостью мыли из шланга, дивясь, что за земля такая твердая, видно спеклась тут совсем. С бумажками этими – деньгами, было неладно. Не потому, что, как большинству, их не хватало, им-то как раз хватало, запросы были небольшие, а потому, что бесовские эти фантики мучения людей и грехи вокруг множили. Положит Маша деньги в плошечку на столе, а к ней соседка зайдет: «Что это ты, Маня, ценности открыто так, небрежно хранишь?». «Да какие ж это ценности», – улыбнется Марья, – вот я тебе песню сейчас запою, вот яхонт“. И заведет: „То не ветер вербу клонит, не дубравушка шумит, то мое сердечко стонет, то душа моя болит“. Соседка слезинку смахнет, тушь подотрет, повздыхает и уйдет. Глянь, а бумажек-то нет! Вот, бесовская сила! Или нечистый за песню мстит, или он же соблазнил соседушку бумажкой, чтобы Машин яхонт не взяла. Ваня даже грешным делом под влияние попал, так его муравьи, то есть грешники измучили. Вымоет он тротуар раненько водичкой, чтобы не так адским жаром пекло и дышать полегче, сядет на скамеечку отдохнуть и видит, что бесы и грешники на асфальт плюют и папироски бросают, порыхлит вокруг чахлых цветочков, а Цербер из восьмой квартиры их ядовитой мочой обольет, а то и чем похуже. Сгребет весь хлам да сор в бак, заметет аккуратненько, отвернется пот со лба утереть, смотрит – все снова кругом валяется. Пробовал он их усовестить, пел про: „Родная сторонка моя!“ – или еще „Родная, родная, родная земля!“, – да куда там. Потому и в аду, что совести нет. Вот и стал дворник Иван злые частушки петь, не злые, но язвительные, а грешникам хоть бы что, только похохатывают, да подначивают, чтоб еще спел. Чертовщина – одно слово. Иван даже разговаривать стал частушечным слогом: „Обана, да обана, во дворе все сметено, не сметёно под кустом, но и там мы подметём“. Шел как-то мимо Важный черт, штанишки узенькие, короткие, рубашечка в облипочку, морда в шерстях, руки в перстнях, услыхал дворниково пение, остановился: „Да ты рэпер, Ванька!“ „Отродясь ничего не пер, у нас вон без конца что-то прут“, – обиделся Иван. „Я не про то. Спой еще что-нибудь“. И тут страдальца прорвало, выдал он все, что на душе наболело частушечкой с крепким словцом, да и какая частушка без него. Тут ему полегчало, и запел он песню любимую, какую давно не пел: „Шумел камыш, деревья гнулись…», – хорошо запел, душевно. Бес из стопора послечастушечного разом вышел, заморщило его, заколбасило: «Стой-стой! Вот этого не надо! Ты, Ваня, фартук сними, метлу оставь, мы с тобой к Главному поедем». Испугался Ванечка, что за песни его с Манечкой разлучат, кинулся прощаться с ней. Обнялись, поплакали и …решили не отпускать друг друга, будь что будет. Важный на удивление легко согласился. Посадил их в шарабан железный, вонючий и куда-то потащил. Притащил в большой, блестящий муравейник, усадил в какой-то комнате и велел ждать. Много ли мало ли времени прошло, зовет он их. Как вошли, увидели множество чертей, но Главного сразу определили. Снова Иван пел частушки, снова забористо, потому как накипело задолго, бесы хохотали, в ладоши хлопали. Потом стали что-то лопотать, видно по-бесовски, Иван ни черта не понял. Понял только, что сарафан Машин и рубаха его расшитая им нравится, а за частушки не сердятся. И все хотят от него чего-то, а чего – не ясно. Тогда Важный Главному говорит по-русски: