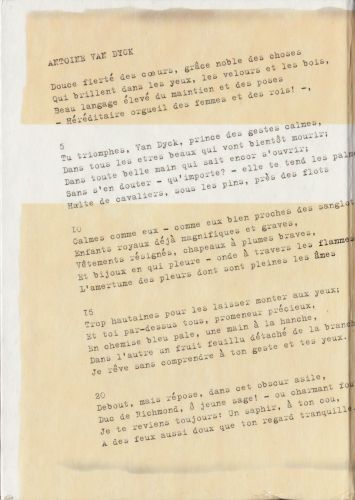Утехи и дни - Страница 30
Ту же мольбу, с которой он обращался к своей матери, ту же мольбу, обращенную к Франсуазе, нашептывали теперь его губы. Он готов был просить ее выйти замуж теперь же, чтобы он мог, наконец, уснуть вечным сном удрученный, но спокойный, и не задумываясь над тем, что произойдет после того, как он уснет.
В ближайшие дни он попробовал говорить с Франсуазой, которая, как и врач, не считала его обреченным и мягко, но непреклонно отвергла предложение Оноре.
Они привыкли говорить друг другу только правду, и поэтому, когда Франсуаза сказала Оноре, что он будет жить, — он почувствовал, что она верит этому, и мало-помалу внушил эту веру себе.
Если я должен умереть, я не буду больше ревновать, когда буду мертв. Но пока я жив? О да, я ревновать буду, пока не умрет мое тело! Но раз я не могу думать, что кто-то другой даст ей наслаждение, раз ревнует только мое тело, — после смерти, когда тело исчезнет, когда мне станет безразлично все земное, когда я не буду уже безумно желать тела, сильнее буду любить душу, — тогда я перестану ревновать. Да, я действительно буду любить. Я не постигаю еще, как это будет, не постигаю теперь, когда мое тело еще живет и протестует, но ведь бывали у нас часы, когда я сидел с Франсуазой, и в беспредельной нежности, лишенной вожделения, находил успокоение своим страданиям и своей ревности. Расставаясь с ней, я буду испытывать горе, но то горе некогда приближало меня еще больше к самому себе, то горе, которое открыло мне таинственного друга — мою душу, то спокойное горе, благодаря которому я почувствую себя более достойным предстать пред Богом. Я почувствую это горе и не буду болеть той ужасной болезнью, которая терзала меня так долго, не возвысив меня морально, терзала, как физическая боль, которая унижает. Я избавлюсь от нее, избавлюсь благодаря моему телу, благодаря желанию моего тела. Да, но до тех пор что будет со мной — калекой со сломанными ногами, когда я стану объектом насмешек для всех, кто сможет «не отказать себе в удовольствии», сколько им заблагорассудится на глазах у калеки, который им будет уже не страшен!
В ночь с воскресенья на понедельник ему снилось, что он задыхается. Ему казалось, что кто-то сдавливает ему грудь; ему казалось, что на груди его лежит что-то безмерно тяжелое. Он просил пощады. Он задыхался. Вдруг он почувствовал, что ему дышать легко, и он подумал: «Я умер!»
И он видел, как над ним подымается все, что так долго душило его: сначала он думал, что это был образ Гувра, затем — его подозрения, затем — вожделение, затем — мысль о Франсуазе. Это «нечто», как облако, принимало все новые и новые формы, росло, росло не переставая, и теперь он не уяснял себе, каким образом «нечто», которое должно было быть огромным как мир, могло лежать на нем, на его маленьком теле слабого человека, на его бедном человеческом сердце, лишенном энергии, и каким образом эта безмерная тяжесть его не раздавила. И он понял также, что он был раздавлен и что жизнь, какую он вел, была жизнью человека раздавленного. А то безмерно огромное, что давило на его грудь всей тяжестью мира, — он понял — была его любовь!
Потом он повторил: «Жизнь раздавленного!» и вспомнил, что в тот момент, когда его опрокинула лошадь, он подумал: «Я буду раздавлен!» Он вспомнил свою прогулку, вспомнил, что должен был в то утро завтракать с Франсуазой, и снова вспомнил о Франсуазе. И он спрашивал себя: «Не любовь ли моя давила на меня? А если не любовь, то что? Быть может, мой характер? Я? Жизнь?» Затем он подумал: «Нет, когда я умру, я не избавлюсь от моей любви, но я избавлюсь от моего вожделения, от моей чувственной ревности», и тогда-то он сказал: «Господи, пошли мне этот час, пошли скорее мне этот час, чтобы я узнал любовь совершенную!»
И в воскресенье вечером обнаружился перитонит, в понедельник утром, часов около десяти, он начал бредить, хотел видеть Франсуазу, звал ее, глаза его горели: «Я хочу, чтобы и твои глаза горели, я хочу доставить тебе наслаждение, какого никогда не доставлял… я хочу тебе…» Потом вдруг он бледнел от ярости. «Я знаю, отчего ты не хочешь, я знаю, с кем ты была сегодня утром, и я знаю, что он хотел послать за мной, посадить меня за дверью, чтобы я видел вас, лишенный возможности броситься на вас, раз у меня нет больше ног. Но я убью его, убью тебя, а еще раньше убью себя! Смотри! Я убил себя». И он без сил падал на подушку. Мало-помалу он успокоился, продолжал думать о том, за кого бы она могла выйти замуж после его смерти, но перед ним вставали все те же мучившие его образы, которые он гнал от себя, — образы Франсуа де Гувра, Бюивра.
В полдень он причастился. Доктор сказал, что он не доживет до вечера. Он быстро терял силы, не мог уже принимать пищи, почти не слышал. Но размышлять он мог и не говорил ничего, чтобы не огорчать Франсуазу, которая была убита горем, — он думал о ней, представлял себе ее тогда, когда он уже ничего не будет о ней знать, когда она уже не сможет его любить.
Имена, которые он произносил машинально еще утром — имена тех, кто, быть может, будет обладать ею, опять стали приходить ему на память в то время, как глаза его следили за мухой, которая подлетала к его пальцу, точно хотела коснуться его, затем улетала и снова возвращалась, но не дотрагивалась до него. И опять он вспомнил Франсуа де Гувра и в то же время думал: «Может быть, муха коснется простыни? Нет, все еще нет!» Тут он вышел вдруг из оцепенения: «Как? И то и другое мне кажется одинаково важным? Будет ли Гувр обладать Франсуазой, коснется ли муха простыни? О, обладание Франсуазой чуточку важней!» Но ясность, с какой он видел пропасть, отделявшую одно событие от другого, показывала ему, что оба события, в сущности, не очень его трогали. И он сказал про себя: «Как мне это безразлично! Как грустно!» Затем он заметил, что «как грустно» было произнесено им по привычке и что, изменившись окончательно, он уже не огорчался тем, что изменился. Бледная улыбка проползла по его губам. «Вот, — сказал он, — моя любовь к Франсуазе. Я не ревную больше. Значит, смерть совсем близка. Не все ли равно, раз это было нужно для того, чтобы я, наконец, почувствовал к Франсуазе подлинную любовь».
Но тут, подняв глаза, он увидал Франсуазу, слуг, доктора, двух старушек-родственниц; все они молились. И он почувствовал, что любовь, очищенная от эгоизма и от чувственности, любовь, которую он хотел видеть в себе такой тихой, такой глубокой, простиралась на старушек-родственниц, на слуг, на самого доктора, в такой же мере, как и на Франсуазу. Питая к ней ту же любовь, какую ему внушали все живые существа, он не мог уже питать к ней иной любви.
Обливаясь слезами в ногах его постели, она шептала самые прекрасные из старых, знакомых ему ласкательных прозвищ: «Моя родина, мой брат!» Но, не имея ни желания, ни силы разочаровывать ее, он улыбался и думал, что его «родиной» была уже не она, а небо и вся земля. Он повторял в своем сердце: «Мои братья», и если смотрел на нее больше, чем на остальных, то только из жалости, ибо глаза его, которые скоро закроются и не будут больше плакать, видели поток слез, струившихся по ее лицу. Но он любил ее такой же любовью, как доктора, старушек-родственниц и слуг. И это было концом ревности.