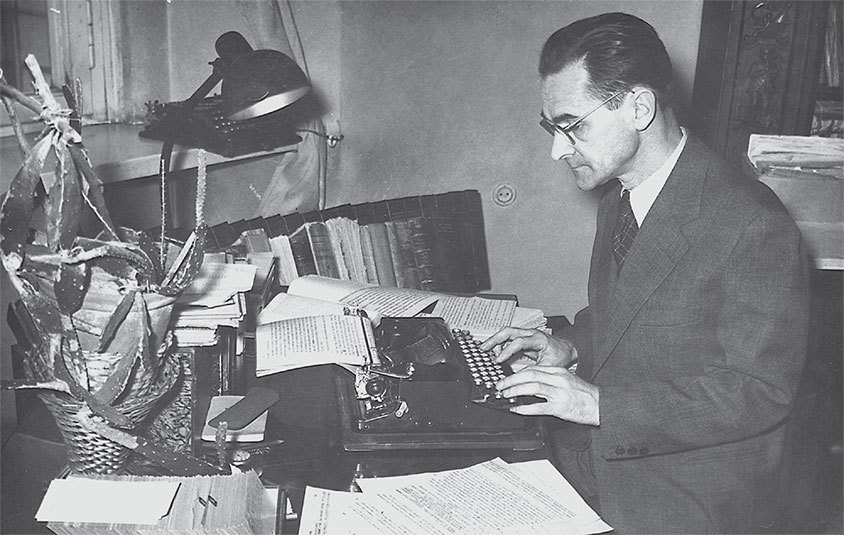Ребенком я играл, бывало, в великаны: ковер в гостиной помещает страны, на нем разбросаны деревни, города; растут леса над шелковинкой речки; гуляют мирно в их тени стада, и ссорятся, воюя, человечки.
Наверно, так же, в пене облаков с блестящего в лучах аэроплана парящие вниманьем великана следят за сетью улиц и садов, и ребрами оврагов и холмов, когда качают голубые волны крылатый челн над нашим городком пугающим, забытым и безмолвным, как на отлете обгоревший дом.
Не горсть надежд беспамятными днями здесь в щели улиц брошена, в поля, где пашня, груди стуже оголя, зимой сечется мутными дождями. Свивались в пламени страницами года, запачканные глиной огородов; вроставшие, как рак, в тела народов и душным сном прожитые тогда; – сценарии, актеры и пожары – осадком в памяти, как будто прочитал разрозненных столетий мемуары.
За валом вал, грозя, перелетал; сквозь шлюзы улиц по
дорожным стокам с полей текли войска густым потоком, пока настал в безмолвии отлив. Змеится век под лесом вереница, стеной прозрачной земли разделив: там улеглась, ворочаясь, граница.
—
За то, что Ты мне видеть это дал, молясь, теперь я жизнь благословляю. Но и тогда, со страхом принимая дни обнаженные, я тоже не роптал. В век закаленья кровью и сомненьем, в мир испытанья духа закаленьем травинкой скромной вросший, от Тебя на шумы жизни отзвуками полный, не отвечал движеньями на волны, то поглощавшие в мрак омутов, безмолвный, то изрыгавшие, играя и трубя.
В топь одиночества, в леса души немые, бледнея в их дыханьи, уходил, и слушал я оттуда дни земные: под их корой движенье тайных сил.
Какой-то трепет жизни сладострастный жег слух и взгляд и отнимал язык – был ликованьем каждый встречный миг, жизнь каждой вещи – явной и прекрасной. Вдыхать, смотреть, бывало, я зову на солнце тело, если только в силе;
подошвой рваной чувствовать траву, неровность камней, мягкость теплой пыли. А за работой, в доме тот же свет: по вечерам, когда в горшках дрожащих звучит оркестром на плите обед, следил я танец отсветов блудящих: по стенам грязным трещины плиты потоки бликов разноцветных лили, и колебались в них из темноты на паутинах нити серой пыли.
—
Но юношей, с измученным лицом – кощунственным намеком искаженным, заглядывал порою день буденный на дно кирпичных стен – в наш дом: следил за телом бледным, неумелым, трепещущим от каждого толчка – как вдохновенье в сердце недозрелом, и на струне кровавой языка сольфеджио по старым нотам пело.
Тогда глаза сонливые огня и тишины (часы не поправляли), пытавшейся над скрежетом плиты навязывать слащавые мечты, неугасимые, для сердца потухали: смех (издевательский, жестокий) над собой, свое же тело исступленно жаля, овладевал испуганной душой. Засохший яд вспухающих уку —
сов я слизывал горячею слюной, стыдясь до боли мыслей, чувств и вкусов.
—
Боясь себя, я телом грел мечту, не раз в часы вечерних ожиданий родных со службы, приглушив плиту, я трепетал от близости желаний – убить вселенную: весь загорясь огнем любви, восторга, без пития и пищи, и отдыха покинуть вдруг жилище; и в никуда с безумием вдвоем идти, пока еще питают силы, и движут мускулы, перерождаясь в жилы.
То иначе —: слепящий мокрый снег; петля скользящая в руках окоченелых и безразличный в воздухе ночлег, когда обвиснет на веревке тело.
В минуты проблеска, когда благословлял всю меру слабости над тьмой уничтоженья – пусть Твоего не слышал приближенья, пусть утешенья слов не узнавал – касался, может быть, я области прозренья.