Собрание сочинений. Т. 8. Накипь - Страница 6
Скользнув вдоль перил, шлейфы исчезли, и дверь захлопнулась.
Октав, приятно возбужденный лукавым взглядом младшей из барышень, постоял еще немного на лестнице, затем медленно стал подниматься наверх.
Лестница, где горел только один газовый рожок, окутанная удушливым теплом, погружалась в сон. В этот час она со своими целомудренными дверями, роскошными дверями красного дерева, скрывавшими за собой добродетельные супружеские альковы, показалась Октаву еще более внушительной. Нельзя было уловить ни малейшего шороха. Так способны молчать лишь благовоспитанные люди, умеющие даже дыхание свое сделать неслышным. Все же легкий шелест донесся до слуха Октава. Перегнувшись через перила, он увидел Гура, в бархатной ермолке и ночных туфлях, гасившего последний газовый рожок. И сразу же все кругом потонуло во мраке, и на дом, опочивший в благородном и благопристойном сне, снизошел торжественный ночной покой.
Но Октав долго не мог уснуть. Он беспокойно ворочался в постели, осаждаемый образами людей, которых впервые увидел в этот день. Почему, черт возьми, Кампардоны с ним так любезны? Уж не рассчитывают ли они впоследствии женить его на своей дочери? А не согласился ли, чего доброго, муж взять его к себе в нахлебники, чтоб он составлял компанию его жене и развлекал ее? А эта бедная женщина, что у нее за непонятная болезнь? Затем мысли его еще больше сметались, и перед глазами у него замелькали какие-то смутные образы — его соседка, г-жа Пишон со своим ясным, ничего не выражающим взглядом, г-жа Эдуэн, серьезная и подтянутая, в черном платье; и обжигающий взгляд Валери, и веселый смех барышни Жоссеран. Сколько их встретилось ему за те несколько часов, которые он успел провести под парижским небом! Ему всегда представлялось в мечтах, как женщины берут его за руку, ведут за собой и помогают устраивать его дела. Одни и те же женские лица возвращались с неотвязной настойчивостью, путаясь и наплывая друг на друга. Он никак не мог решиться, какую же из них выбрать, но и в полузабытьи старался сохранить свой воркующий голос и вкрадчивые манеры. Вдруг, потеряв терпение, он дал выход своей врожденной грубости и жестокому презрению, которые он, под притворным обожанием, питал к женщинам, и, повернувшись яростным движением на спину, крикнул:
— Дадут ли они мне наконец уснуть? Мне наплевать, пусть это будет любая, какая ни пожелает!.. А то и все разом, если им угодно!.. А теперь спать!.. Утро вечера мудренее…
Когда г-жа Жоссеран, предшествуемая обеими дочерьми, покинула званый вечер г-жи Дамбревиль, жившей на пятом этаже дома, расположенного на углу улиц Риволи и Оратуар, она со всего размаху захлопнула за собой парадную дверь, дав волю ярости, которую с трудом сдерживала уже целых два часа. Берта, ее младшая дочь, опять упустила возможность заполучить жениха.
— Чего вы там застряли? — запальчиво обратилась она к молодым девушкам, которые, остановившись под воротами, провожали взглядом проезжавшие мимо фиакры. — Ступайте! Уж не думаете ли вы, что я собираюсь нанять вам экипаж? Чтобы истратить еще два франка, не так ли?..
— Ну и удовольствие пробираться по этой грязи!.. Вот как увязнут в ней мои туфли… — проворчала старшая дочь Ортанс.
— Пошли, говорю я! — крикнула мать, окончательно взбешенная. — Когда вы останетесь без башмаков, то будете лежать в постели, вот и все! Да и какой, собственно, смысл вывозить вас в свет?
Берта и Ортанс, понурив головы, свернули на улицу Оратуар. Ежась и дрожа от холода в своих легких бальных накидках, они старались возможно выше подбирать длинные юбки-кринолины; г-жа Жоссеран шла за ними, облаченная в старую беличью шубку, до того облезлую, что стала похожа на драную кошку.
У всех трех вместо шляп были кружевные косынки, чем они и обращали на себя внимание запоздалых прохожих, с удивлением смотревших, как они гуськом пробираются вдоль стен домов, сгорбившись и старательно обходя лужи.
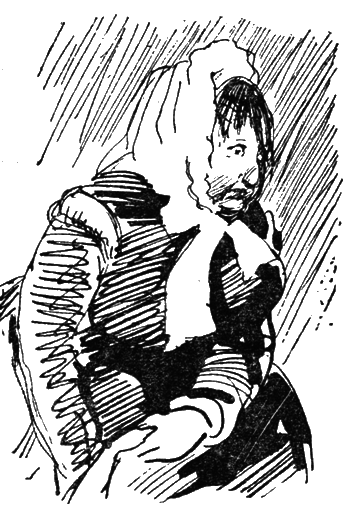
— Это у нее называется устраивать браки! — снова подумав о г-же Дамбревиль, проговорила она вслух, просто чтобы отвести душу и вовсе не обращаясь к дочерям, уже успевшим повернуть на улицу Нев-Сент-Оноре. — Можно себе представить, что это за браки! Куча вертихвосток, которых она откапывает неведомо где! Ах, если бы только не нужда! А эта ее последняя удача — новобрачная, которую она нарочно пригласила, чтобы показать нам, что не всегда у нее бывают провалы! Недурной пример, нечего сказать! Несчастная девчонка, которую после скандальной истории пришлось на полгода запрятать в монастырь, чтобы обелить ее репутацию!

Они скользили, шлепали по лужам, останавливались и снова поглядывали на катившие мимо свободные фиакры.
— Идите же! — неумолимо крикнула г-жа Жоссеран. — Отсюда рукой подать, нет смысла тратить сорок су… А ваш братец Леон тоже хорош! Не пошел вас провожать, испугался, что ему придется заплатить за фиакр… Что ж, пускай устраивает свои делишки у этой особы… Ну и гадость, скажу я вам! Женщине уже за пятьдесят, а принимает у себя только молодых мужчин! Правда, она и прежде была не бог весть что, и если бы одно высокопоставленное лицо не заставило этого дурака Дамбревиля жениться на ней, назначив его за это начальником отделения…
Ортанс и Берта, одна следом за другой, шагали под дождем, будто и не слыша этих речей. Когда г-жа Жоссеран отводила таким образом душу, выкладывая все и забывая строгие правила хорошего тона, подчиняться которым она заставляла своих дочерей, те, по молчаливому уговору, притворялись глухими. Однако, когда они свернули на темную, мрачную улицу Эшель, Берта громко возмутилась.
— Ну вот! — воскликнула она. — У меня отваливается каблук. Как хотите, я не могу идти дальше!
Госпожа Жоссеран пришла в ярость:
— Говорят вам, идите!.. А я почему не жалуюсь? Мне-то разве пристало шататься по улицам по такой погоде, да еще в столь поздний час? Еще будь у вас порядочный отец!.. Он-то себе барином сидит дома и прохлаждается… Будто это моя забота — вывозить вас в свет! Сам-то поди не согласился бы на такую каторгу! Ну так вот, заявляю вам, что мне это осточертело! Пусть теперь ваш отец сопровождает вас, если это ему нравится!.. Что касается меня, то убей меня бог, если я еще буду водить вас в дома, где со мной совершенно не считаются! Обманул меня россказнями о своих способностях, а теперь к тому же изволь вымаливать у него малейшую уступку! О боже праведный! Если б можно было вернуть прошлое, я бы вышла за кого угодно, только не за него!
Молодые девушки молча слушали эти жалобы. Им хорошо была известна нескончаемая повесть о разбитых надеждах их матери. С прилипшими к лицу кружевными косынками, в промокших туфельках, они почти бежали по улице Сент-Анн. Однако на улице Шуазель, у самого дома, г-жу Жоссеран ждало еще одно унижение — экипаж возвращавшихся домой Дюверье обдал ее грязью.
Встретив на лестнице Октава, мать и обе барышни, раздраженные и до смерти усталые, постарались держаться как можно грациознее. Но едва только за ними закрылась дверь, они бросились бежать по темной квартире и, задевая за мебель, влетели в столовую, где их отец что-то писал при скудном свете маленькой лампы.
— Опять сорвалось! — крикнула г-жа Жоссеран, в бессилии опустившись на стул.
Резким движением сдернув с головы косынку и швырнув на спинку кресла свою меховую шубку, она осталась в отделанном черным атласом ярко-оранжевом платье, тучная, низко декольтированная, с открытыми, еще красивыми, но напоминавшими лоснящийся лошадиный круп плечами. Трагическое выражение ее квадратного лица с отвислыми щеками и крупным носом придавало ей сходство с разгневанной королевой, которая еле сдерживается, чтобы не разразиться площадной бранью.