Сначала было слово
Повесть о Петре Заичневском - Страница 1
Леонид Лиходеев
СНАЧАЛА БЫЛО СЛОВО
Повесть о Петре Заичневском

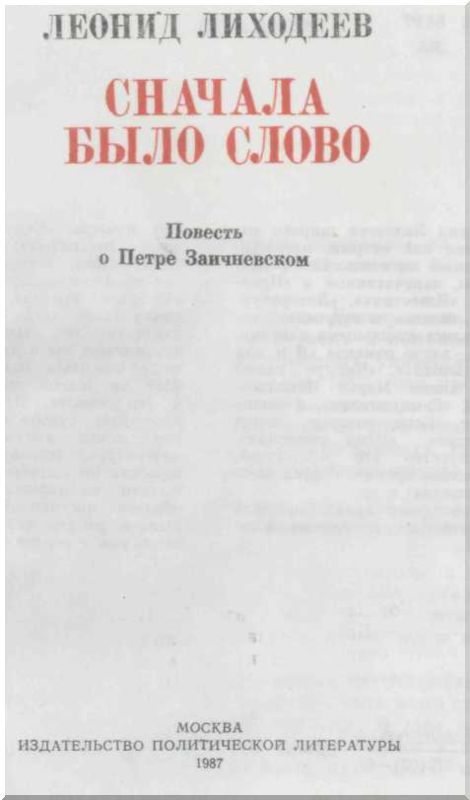
ОТ АВТОРА
В сибирской газете «Восточное обозрение» за 2 апреля 1897 года я прочел короткое воспоминание об одном из сотрудников этой газеты:
«Заичневский Петръ Григорьевичъ, 1842–1896. Орловскій уроженецъ и помещикъ. Воспитывался въ Московскомъ университете, но курса не окончилъ. Въ 1863 году пріехалъ в Сибирь, куда онъ пріезжалъ еще въ 1890 году и прожилъ въ Иркутске до 1895 года. Принималъ участіе въ провинціальныхъ газетахъ… Умеръ в Смоленске в крайней нужде».
Этот человек заинтересовал меня тем, что в двадцатилетнем возрасте написал прокламацию «Молодая Россия». Он начал революционный путь, когда в России Маркса еще не знали. Заичневский остался в шеренге пламенных революционеров как автор этой прокламации. Но после нее он прожил еще тридцать лет и четыре года, был вечным ссыльным и ушел из жизни, когда в России уже укоренялся марксизм.
Может быть, поэтому я вообразил его уставшим пожилым человеком, которому оставалось жить всего сто дней…
И он увлек меня в свое прошлое. Я шел за своим воображением. События, оставшиеся навеки в энциклопедической памяти, стояли вдоль пути моего, как верстовые столбы, а я шел им навстречу, стремясь увидеть этого человека молодым. Я шел к его прошлому, снимая годы и десятилетия, чтобы обнажить далекую юность, ликовавшую надеждами, и услышать слово, которое вспыхнуло вначале.
Прокламация «Молодая Россия» была главным делом его жизни, восклицательным знаком его бытия, и, в меру моих сил, я пробирался к дням его прокламации, ибо по законам жанра восклицательный знак ставят в конце…
ЧУГУННЫЙ ТРАКТ
1895.
Из Иркутска в Смоленск
I
Левая пристяжная, чалая лошаденка, приплясывала обособленно, будто и невпряженная, а как бы приставшая к упряжке для компании. Отворотив от гнедого коренника голову с негустой светлой гривой, лошаденка легко клубила плотным морозным дыханием, баловалась льняным хвостом, вздымая его, как на нужду, раскидывала в беге ноги, выбивая из зимника крепкие комья смерзшегося снега. Правый конь, тоже гнедой, но посветлее, натягивал шлею заметно, держал голову так же прямо, высоко, стриг ушами на звук бубенца.
Белое слепящее пространство разлеглось перед лошадиным бегом — закованная молодым льдом, заваленная молодым снегом река петляла в высоких берегах, влекла свежую, еще голубевшую, еще не пожелтевшую конскими следами едва накатанную дорогу.
Петр Григорьевич тепло умостился, полулежал лениво, подремывал, добродушно просыпаясь на ухабе, а очнувшись, думал некоторое время, до новой сладкой дремоты. Голубев, мягкий, закутанный башлыком, детски посапывал у него на плече.
Они выехали из Иркутска наспех, вдруг.
И вот снова дорога, зимник, широкая меховая спина ямщика и — ни дома, куда ехать, ни даже точного места назначения. Там, впереди, перед лошадиными ушами, — столицы, в которые — нельзя, университетские города, в которые — нельзя, и остальная страна, в которую — можно: огромная нелепая империя с маленькой головкой и непомерным туловом. Огромная империя, похожая на ископаемого динозавра.
Сходство это усматривал на географической карте Ошурков. Он почему-то считал, что у динозавра были ласты, и тыкал пальцем в Камчатку, действительно похожую на ласт. Метеоролог Ошурков обладал воображением шамана: видел в тенях, облаках, дымах людей, всадников, животных и читал предзнаменования.
Петр Григорьевич уткнулся в воротник, вспомнил пахнущий лиственничными дровами очаг Ошурковых (что-то вроде камина).
— Весьма кокетливая особа, — сказал вдруг Голубев и рассмеялся: он не спал, а только притворялся спящим, наблюдая выкрутасы чалой лошаденки.
Ямщик шевельнулся и вытянул лошаденку кнутом. Лошаденка взбрыкнула, круче отвела голову и заплясала еще затейливее. Ямщик покрутил волчьим малахаем, крикнул, не оборачиваясь:
— Вот так и жизня наша, господа!
— За что ты ее? — спросил Голубев.
— Да я ее так! Любовно! Жалеючи! Учу! Гляди, барин!
И хлестнул снова.
— Ну, будет тебе! — сказал Голубев.
— Да я ж ее сухарем кормлю! С руки берет! И-эй, распрекрасные! Я говорю, вот так и жизня наша, господа! Едем, едем, а конца не видать!
Река круто повернула вправо. Зимник двинулся из нее на взгорок, на спрямление.
За взгорком показалась прямая заснеженная белая насыпь, показалась вдруг, как вынырнула, — тяжелая, большая, несуразная, никак не причастная к местности. Шла она поперек пади. Упряжка поскакала вдоль насыпи, как вдоль небывало ровного высоченного берега. Там по верху, по самому гребню, копошились черные маленькие далекие люди. Оттуда в тихом морозе долетали удары по железу, крики какие-то — должно быть, приказания десятников.
— Во-на, господа, — обернулся ямщик, указав кнутовищем на гребень, — ежели оттуда скатиться — костей не соберешь!
— Зачем же оттуда скатываться? — спросил Голубев.
— Мало ли… Спьяну, к примеру… Н-н-но, милая!..
— Полно тебе… Туда одних трезвенников брать станут.
— И-и, барин! — оживился ямщик. — Где ты тех трезвенников найдешь? Возим вино бочками! Да еще платят-то как!
И снова обернулся неуклюже:
— А когда ее дотянут, дьявольскую выдумку, — конец лошадям. Конец. И мы по миру пойдем.
Он перекрестился кулаком, в котором кнут.
— Видишь, Петр, в основе этого взгляда — прямой экономизм… — сказал Голубев.
Говорить не хотелось. Сейчас Голубев оседлает своего конька — идеализм, материализм, проникновение капитализма…
Петр Григорьевич прикрыл веки.
Взгляд ямщика на строительство великого сибирского пути, железной дороги, чугунного тракта распространен был в Сибири широко и давно. Умные, ученые, образованные люди излагали взгляд этот по-английски, по-французски, по-немецки, приспосабливая к нему Смита, Рикардо, Сисмонди, Милля, Маркса… А ямщик излагал его просто и незатейливо: а ну ее к лешему, дьявольскую затею! А дьявольская затея громоздилась поперек Сибири, вбирая в себя все, что нужно было ей, этой дьявольской затее, и не внимая никаким толкам на свой счет.
Там, у Ошуркова, над конторкой висела карта империи. Синий карандаш отделил на ней Россию от Сибири. Синий, отчаянно смелый карандаш. Зоолог Пыхтин объяснял:
— Динозавры были диплодоки, то есть двудумы. Дип-ло-док, дву-дум. В крестце у него помещался второй мозг, чтобы управлять хвостом и задними ногами. Мозг этот был вдесятеро объемнее головного.
— Сепаратистский, — сострил Петр Григорьевич и ощутил в ответ холодность: сибирские сепаратисты, областники, отделенцы, остерегались его острословия. Митрофан Васильевич Пыхтин, зоолог, знаток фауны и сущей и вымершей, управитель несметного миллионного дела Анны Ивановны Громовой, человек ученый, далекий от образных фантазий, был задет:
— Вы невозможный человек, господин якобинец! Я вам объясняю как зоолог, а вы воспринимаете — как политик… Этак недолго…
— Да ведь дальше Сибири ничего нет! Вы противопоставляете Сибирь России и геологически, и геодезически, и метеорологически и еще бог весть как. Но главным образом — нравственно! Полноте! Природа здесь, возможно, и особенная, а нравственность — пардон! Мы привезли сюда из России все лучшее, что в ней было, и все худшее, что в ней есть! И сатанимся против этого худшего, будто оно, худшее, и есть — Россия, а лучшее — это Сибирь!
Иркутские сепаратисты, областники, таили юношескую мечту свою о Сибирской федерации, поплатились за нее в свое время, но помнили о ней, как помнят всю жизнь безвременно погибшую невесту, так и не ставшую женою. Они постарели, отяжелели домами, делами, чинами, но сердца их колотились прежним и шутить над их страстью было нехорошо. Они делили мир сей на местных и навозных, забывая, что сами, или отцы их, или деды прибыли сюда оттуда же, из России, и больше ниоткуда. Преданность их Сибири была сильна и бесстрашна. Она делала их великими знатоками — зоологами, химиками, землепроходцами, этнографами, экономистами, металлургами, и их имена золотились на корешках драгоценных для российской науки фолиантов.