Смешные и печальные истории из жизни любителей ружейной охоты и ужения рыбы - Страница 8
Судя по смолкшей канонаде, которая была слышна, пока мы ужинали, собирались и плыли к месту, лет подошел к концу или уже закончился.
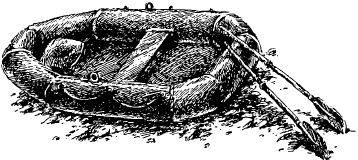
— У Розенбаума мне больше всех песен нравится «Утиная охота», — предался откровениям профессор, пока я старался высмотреть в мутном небе хоть какое-нибудь движение, но кроме козодоя, беспечно кружащего вокруг нас бесшумной тенью, ничего не видел.
— Как это здорово: «Из полета, или как там, возвратятся утки на озера, или что там, с голубой водой», — самозабвенно продекламировал он вполголоса и вдруг вскинул ружье к плечу.
Огонь из правого ствола вспорол ночную тьму, но оглушительный залп позволил тем не менее расслышать, как дробь срезала на своем пути метелки десятков камышей. Профессор слегка отшатнулся. Онемев от такого оборота событий, я потянул руки к ружью, но профессор мягко увильнул, произнося:
— Ничего, ничего. Отдача не сильная. Сейчас я ее доберу.
С этими словами он повел стволами в мою сторону на уровне лица. Я молча упал и, падая, услышал новый выстрел и шум срезаемых дробью камышин.
Если выбросить из последовавшего за этим стремительного пятиминутного словоизлияния брата, скоренько подбежавшего к нам, все непечатные выражения, то кроме предлогов и междометий там останутся только три первые слова: «ты», «что» и «козерожина». Увидев, что профессор пальнул по козодою, которого в конце концов заметил и принял за утку, брат на всякий случай решил схорониться и лег в траву. Второй заряд дроби кучно просвистел над его головой. Зная, что патроны у меня, и догадываясь, что я уже не позволю профессору перезарядить ружье, он решился подняться и нанести нам визит. Во время этого запоздалого инструктажа по правилам безопасности на охоте профессор пытался извиниться, говоря, что и в мыслях не держал причинить кому-либо из нас какой-то вред. Меня это заявление отчасти успокоило, а у брата вызвало обратную реакцию.
— Еще бы ты попытался, козерожина! — завопил он, выкатывая глаза на ссутулившегося профессора белой магии.
На обратной дороге, когда катер поворачивал, чечетка, выбиваемая резцами профессора, заглушала глохнущий мотор. Все сидели нахохлившись, как вороны под дождем, и молчали. Я думал о том, что все мы, вступившие в эту нелепую игру, проиграли, и Валентина никогда не простит нам с братом этого проигрыша.
Так оно и оказалось.
Через пару недель я встретил Тютюню у деда Сани. Старики сидели на лавочке в саду, под раскидистой золотой китайкой, усыпанной полупрозрачными от бродящего уже сока яблоками. В ногах у них спал облезлый кобель, который, завидев меня, сделал попытку пошевелить приветственно хвостом, но это получилось у него лишь отчасти.
— Я, чай, ты и не знашь, как профестора проводили, — обратился ко мне Тютюня, излагавший, по-видимому, деду Сане свою точку зрения на события двухнедельной давности.
Он рассказал, как ночью проснулся и пошел на двор, а вернулся, по привычке, не на духовитый матрац, а на свою кровать, где дочь и жена уложили профессорскую чету. Хорошо, баба Груня услышала, что он встал и долго не возвращается. Она застала Тютюню на коленях перед кроватью, вымаливающего под звонкий храп мага у его жены прощения за то, что он, пьяный дурак, по ошибке пытался улечься с ней рядом.
— Господи, ну хватит же наконец! Ничего страшного не случилось! — пыталась отвязаться от Тютюни женщина.
— Да я бы, если чего и захотел, так уже лет пять, как ничего не выходит! Так что вы, чего не подумайте! — не унимался Тютюня, готовый уже заплакать от случившегося по его вине конфуза.
Баба Груня увела его все еще причитавшего:
— Да кабы я чего мог, так и то не польстился бы на вашу телесность. Вы не думайте, Христа ради. Я не охотник на костях кататься.
А утром, когда по расчетам Тютюни, гости должны были уже уехать, он вошел в залу, позевывая, лохматый, в синей майке и черных семейных трусах, вывернутых так, словно обе ноги одеты в одну штанину, со словами:
— Дочьк! Мне бы похмелиться, а то вчерась, пока я от твово придурка-то этого, завмага из Австралии, прятался, всю организму себе самогоном спортил.
Войдя наконец в залу, он рассмотрел сидевших за столом жену, дочь и двух вчерашних гостей.
— Ничего не вышло у Вальки-то с профестором, — закончил рассказ Тютюня. — Дак, она новых двух подыскала. Петьку сватает с ними на охоту сходить.
Один из новых, судя по всему, был каким-то продюсером, а второй — инвестором, но Тютюня, никогда не утруждавший себя правильным произношением незнакомых слов, называл обоих «продристорами».
ПЕРВАЯ ЧЕРНОБУРКА

— Убей Бог! Убей, если вру, что не так, — выпучив, сколько было возможности, маленькие глазки, сыпал дед, как из молотилки, чтобы не дать никому возможности перебить его. — А только верно баю: чернобурка! Вот, как сейчас, своими глазами. Убей Бог! И хоть и старые глаза, а лучше новых двух. Вот, разрази гром, погонят! А всего-то: час-два, туда-обратно.
Чтобы было убедительнее, дед подпрыгивал на табурете и размахивал руками, выстреливая одну очередь слов за другой. И очереди эти должны были поразить брата в самое сердце — уговорить его отправиться за чернобуркой, которую дед видел, якобы, у давным-давно сгоревшего дома лесника.
Брат поначалу высмеял деда Саню за чернобурку, сказав, что ей тут взяться неоткуда, если только с шубы Валентины воротник не сбежал. Но знал брат и то, что в Кадницах не сыщется другого такого приставучего человека, как дед Саня. Прослужив всю войну в полковой кухне, а после нее по хозяйственной части в армии, дед Саня по всякому поводу любил сказать:
— В уставе старого солдата слово «уступление» не убозначено! За вспотевшим окном темное небо цвета сизого голубиного крыла грозилось вот-вот пролиться дождем на полный влаги тяжелый снег. Мокрые грозди рябины нехотя качались под натиском тонкоголосых свиристелей и сыпали ягоды вниз. Кот Васька, заприметивший птиц, пролез сквозь решетку сырого штакетника, опустил лапу в снег, поднял ее, потряс быстро-быстро и задумался — стоит ли дальше идти. А на столе добродушно побулькивал самовар, ни секунды не сомневаясь в том, что только безумцы могут отправиться в этакую погоду со двора мокнуть да потом мерзнуть.
В конце концов брат сдался и принялся вкладывать патроны в новенький патронташ, посмотрел в стволы своей вертикалки. А когда протрубил в них, как в рог, возбуждение передалось и гончим: они застонали в сенях, заскребли в дверь.
На улице пегие красавцы Туман и Бояр в сворках из сыромятной кожи, как в портупеях, выступали чинно, будто на параде. А мой юный и косолапый ягдтерьер Бес рвался с поводка с хрипом, метил каждый приметный бугорок и облаивал всех встречных дворовых собак. Псы глухо рычали и, уже зная его вздорный характер, прятались нехотя в своих темных, блохастых будках.
Едва мы выбрались по старой лесной дороге на поляну, где когда-то стоял дом лесника, а теперь даже печь рассыпалась, Бояр потянул, и брат набросил гончих. С легким скулежом смычок ушел в полаз вдоль кромки леса и вскоре заголосил на разные лады по зайцу.
Услышав этот лай, этот вопль азартной погони, Бес отчаянно рванулся на поводке и протяжно завыл-загавкал, вторя гончим и одновременно умоляя отпустить его.
— Ишь, выжлец! — ехидно произнес дед Саня, посмотрев на обезумевшего ягда. — Пожалуй, пусти его — с заревом пойдет.
С последними словами он протянул руку, чтобы пригладить маленького страдальца, но вовремя успел отдернуть. Белые зубы с лязгом сомкнулись в воздухе, а верхняя губа «страдальца» злобно поднялась, обнажив клыки.
— А, батюшки! — охнул дед Саня. — Зубьи-ти как у граблей!