Сердитый бригадир - Страница 2
Сейчас, лёжа на скошенном клевере, я искренне пожаловался Володе на этот свой недостаток. Мы не были близкими товарищами, но недавно я расшиб ему губу из-за Тузика, и теперь мне невольно захотелось показать, что нисколько на него не сержусь. Выслушав меня, Володя сдвинул брови домиком и сказал:
— Ты знаешь, это странно. По-моему, на собрании гораздо легче говорить, если ты согласен с предыдущим оратором.
— Почему? — спросил я.
— Потому что ты развиваешь и продолжаешь его правильные мысли. Представь себе, я делаю доклад по какому-нибудь вопросу. Ведь я же готовлюсь, читаю литературу, советуюсь со старшими… А ты вышел и рубишь с кондачка!
Я начал было ему возражать, но у него вдруг сделались круглые глаза: он смотрел поверх моей головы.
— Здрасьте, пожалуйста! — перебил меня Володя и поднялся с травы.
Я обернулся, перекатившись через спину.
К нам шёл Сёмка.
— Сними очки, — быстро сказал Володя.
Теперь Сёмка был совсем близко. Мы видели, что из ноздрей у него медленно каплет наземь кровь: очевидно, он вырвал кольцо из носу и удрал. На ходу он тряс головой, не замечая нас.
— Пожалуй, пройдёт мимо, — сказал Володя.
Сёмка огибал холм ниже того места, где мы косили. Боль и злость гнали его куда глаза глядят.
— Вот чёрт! — выругался Володя. — Ведь он же сейчас утонет в трясине…
Сперва мы заметались на одном месте, не зная, как помочь беде, а потом бросились к быку.
— Сёмка! Сёмка! Сёмка! — кричали мы на бегу.
Он даже не обернулся. До топи оставалось метров сто. Мы догнали быка, забежали с двух сторон вперёд и фальшиво-ласковыми голосами попытались его задержать:
— Сёмочка, Сёма!..
Он пошёл на нас, как танк. Мы брызнули врассыпную. Судя по тому, что у Володи лицо было испуганное, я, вероятно, тоже представлял собой неважную картину.
— Надо бежать за помощью, — торопливо сказал Володя.
— Но кто-нибудь из нас должен остаться и задержать его, — сказал я.
— Само собой разумеется, — сказал Володя. — Я мигом домчусь…
И вот я остался с Сёмкой.
Пока мы рассуждали, он ушёл ещё метров на шестьдесят вперёд. Я хорошо знал берег этого подлого озерка: стоило Сёмке пройти мимо одинокой сосны, как в десяти шагах он провалился бы.
И тут я вспомнил про свои очки. Нацепив их на бегу дрожащими руками, я отчаянно заорал:
— Стой, Семён! — и оказался перед самым его окровавленным носом.
Он поднял голову.

Мне и сейчас ещё становится жутко, когда я вспоминаю его морду. Увидев мои очки, он так рассвирепел, что мне показалось, будто у него из ноздрей повалил пар. Всё это продолжалось одно мгновенье. В следующую секунду я уже мчался прочь, слыша за собой тяжёлый топот и сопенье Сёмки.
Я не знаю, что должен чувствовать человек, находясь в смертельной опасности. Я лично ничего не соображал и не чувствовал. И кажется, я что-то кричал от страха, но слов не помню.
Он меня уже настиг, ткнувшись носом в мою развевающуюся гимнастёрку, но тут я увидел сосну и метнулся за неё. Сёмка тяжело проскочил мимо и тотчас остановился. Задыхаясь, я взобрался на дерево. Это была молодая, совсем не толстая сосна, а сучья у неё были и подавно тонкие. Мне бы в жизни на неё не взобраться, если бы не ужас, который меня гнал наверх, к небу.
Услышав треск ломающихся подо мной сучьев, Сёмка повернул своё бронебойное туловище, увидел меня и заревел от ярости. Сосна задребезжала от его рёва.
Он подбежал к дереву, остановился, забил копытом оземь и, наклонив голову, ударил своим каменным лбом по стволу.

Меня сильно тряхнуло. Исцарапав себе лицо, живот и руки, я прилип к сосне и чудом удержался… Невесёлое это дело — висеть в метре над такой тупой, злобной скотиной, как Сёмка!
Но всё это ещё пустяки, самое худшее было впереди.
Минут через десять ему надоело бушевать подо мной, и он пошёл прочь.
Сперва я было обрадовался, слез с дерева, стал обтирать кровь со своих саднящих царапин. Однако, посмотрев вслед удаляющемуся Сёмке, я чуть не заплакал: он снова пёрся к болоту!
Ох, как я его ненавидел!.. Но что же мне было поделать, когда я знал, что училище заплатило за него такие громадные деньги.
Побежав за ним следом, я стал швырять в него палки и камни. Я обзывал его такими словами, что, наверное, если бы наши девочки их услышали, никто бы из них не стал со мной дружить.
А Сёмка всё шёл и шёл к трясине.
Тогда мне пришлось снова забежать вперёд и показаться ему в своих очках. И опять я летел, не чувствуя под собой земли, а эта дрянь топотала за моей спиной своими ножищами, мечтая достать меня и разнести в клочья.
Не знаю, сколько времени всё продолжалось и сколько раз я удирал от него, взбираясь то на одно дерево, то на другое. Теперь-то я могу сознаться, что даже плакал: от злости, от усталости и от страха. Когда прибежал Павел Герасимович с нашими мастерами и рабочими, мы оба уже устали — и Сёмка под сосной, и я на сосне.
Его довольно легко увели, обмотав цепью рога. А я сказал, что должен полежать на траве и отдохнуть. Мне стыдно было являться в училище в таком растерзанном виде.
Назавтра у нас было общее собрание. Обо мне говорили, что я поступил, как настоящий комсомолец.
Володя Сатюков тоже выступал. Он присоединился к предыдущим ораторам.
Первый урок

Он пришёл как-то в субботу вечером к Наташе и встретил её во дворе: она шла под руку с высоким стройным моряком. Они чему-то смеялись, когда поравнялись с Мишей.
— А это мой друг детства, Мишка Новожилов, — представила его Наташа.
— Дима Пахомов, — протянул руку моряк.
Что-то привычно кольнуло Мишу в сердце, но он так давно и так часто испытывал муки ревности, что стыдился и умел подавлять их.
— Мы налево, а тебе куда? — нетерпеливо спросила Наташа, когда они втроём дошли до ближайшего угла.
— Пожалуй, я тоже пойду налево, — сказал Миша.
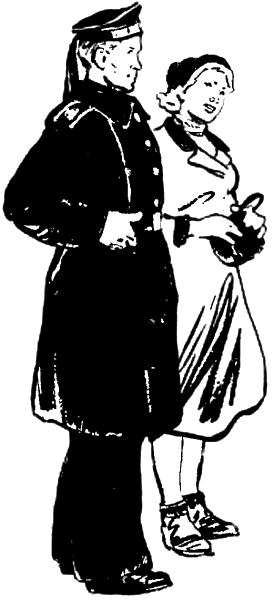
Он шёл рядом молча. Моряк рассказывал о том, как в прошлое воскресенье чуть было не выиграл в училище гонку на швертботе. Наташа всё время смеялась и таким странным ненатуральным смехом, что Миша несколько раз покосился на неё.
«Что это она? — удивлялся он. — Ничего ведь смешного в этом рассказе нет…»
В одном месте он не понял морских терминов и спросил Диму, что значит «оверштаг». Тот начал было охотно объяснять, но Наташа перебила его и сама закончила объяснение таким тоном, словно Миша спросил нечто в высшей степени элементарное, что уже граничит с неприличием.
Ему тоже захотелось рассказать что-нибудь интересное, и, воспользовавшись паузой, он рассказал, как вчера была его очередь в общежитии готовить на всю комнату обед, а он положил макароны в холодную воду и они совершенно раскисли. Ребята страшно ругались, только студент-румын, который живёт с ними в одной комнате, вежливо хвалил, радуясь, что ему хватило для этого русских слов.
Миша отлично помнил, как всё это было смешно вчера и с какой благодарностью он смотрел на румына, но сейчас, рассказывая, он никак не мог добраться до конца и тоже смеялся ненатуральным смехом.
Моряк слушал внимательно, но глаза его были похожи на глаза врача из студенческой поликлиники, того самого врача, который считал, что студента нельзя оставлять наедине с градусником.
Очевидно, желая выручить Мишу, Наташа, не дожидаясь конца рассказа, погладила его вдруг по голове и сказала: