Сага о Певзнерах - Страница 1
Посвящаю любимой жене —
Татьяне Алексиной, чей человеческий
и творческий дар всегда взыскательно
поддерживает меня и во всем мне помогает
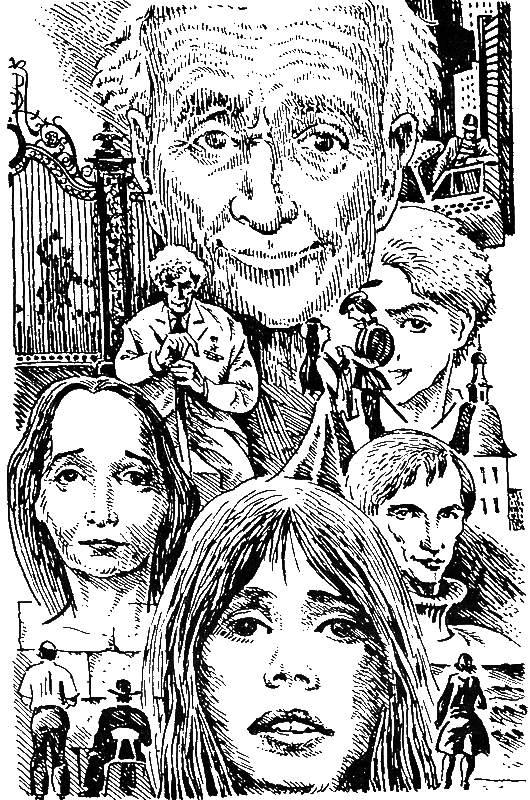
Книга первая
«ЕВРЕЙСКИЙ АНЕКДОТ»
Это было давно. Но никогда и нигде не должно повториться… И потому я пишу эту книгу.
Есть такой анекдот… Смешной и трагичный. Он именуется жизнью. Ее можно назвать и «романом с вырванными страницами». Я вырываю страницы, вырываю страницы… Чтобы второстепенность не заглушила смеха и не спрятала слез.
Но стены смеха на свете нет. А Стена плача пролегла от Иерусалима по всей земле.
И город, по которому я иду вечерами, она тоже пронзила. Иду вечерами, уходящими в ночь… потому что туда, в ночь, ушла и биография нашей семьи. Автоматически, наизусть пересекаю улицы, миную бульвары, заворачиваю в переулки. Не замечая ни переулков, ни бульваров, ни улиц… Я иду по дороге прошлого. И замечаю лишь зигзаги, рытвины, пропасти, которых на той дороге было так много, и гладкие, празднично ухоженные пространства, которых было так мало. Память соединяет эти редкие метры счастья с беспредельностью потрясений, разочарований и бед. Соединяет в роман, который должен ответить: «Зачем же был этот путь? И к чему он привел?»
Я обязан все вспомнить и записать. А потом вырвать незначительное, способное лишь отвлечь. Вспомнить и записать…
Те люди, которые гораздо дороже мне, чем я сам, никогда не были здесь, и потому я живу в этом городе. Я не смог бы жить в том, другом — пусть и великом! — где их не стало… Но я часто приезжаю туда, чтобы удариться душой о могильный камень, о памятник, как о Стену плача. Она, святая Стена, достигла и далекой могилы, с которой начался гибельный ужас нашей семьи и которую отыскать невозможно. Как невозможно объяснить все таинства и загадочности, с жестоким упрямством сопровождавшие мою дорогу…
О нет, быстротечна лишь легкая жизнь, с которой жаль расставаться. А тяжкая — бесконечна, и никак не допросишься, не дождешься ее конца.
К чему все свелось и чем завершилось? На это память моя ответит не сразу.
А с чего началось?
О дне моего рождения у меня, увы, нет собственных впечатлений. Но с чужих слов я могу воспроизвести тот день в самых мельчайших подробностях. Мельчайшие — это вовсе не «мелкие»: по значению своему они могут оказаться даже крупнейшими. Уж поверьте мне, психоневрологу.
Детали, детали… Из них состоит все: человеческий организм, природа, машина. И повествование мое тоже соткано из деталей — увиденных чьими-то глазами или своими; существовавшими наверняка или домысленными; сбереженными стойкостью памяти или рожденными воображением.
О пребывании в родильном доме в качестве новорожденного я постарался выяснить все, поскольку именно с этого начался отсчет не одних лишь детских болезней и шалостей, а главных событий моей судьбы. Как и судеб сестры и брата, которые протолкнулись на свет вслед за мной — друг за другом — с интервалом в пять или десять минут. Не более… Правда, мама до этого мучилась трое суток. Лучший друг нашей семьи Абрам Абрамович по прозвищу Еврейский Анекдот укрощал юмором любые жизненные напряжения. «Шутки, анекдоты для этого именно и придуманы», — уверял он. И когда отец с Золотой Звездой Героя Советского Союза на груди метался по коридору родильного дома и впивался пальцами в свою голову, поседевшую от героизма, Абрам Абрамович, оглядевшись, доверительно сообщил:
— Там, у Юдифи внутри, три джентльмена: один другому уступает дорогу.
Старые анекдоты вызывают досадливое раздражение, но отец не испытал раздражения и досады: дело, стало быть, не в родовой патологии, а в особой интеллигентности его будущего потомства.
— Деликатные, черти! — впервые за три дня воспрял духом Герой.
По Еврейскому Анекдоту выходило, что я оказался наименее интеллигентным и деликатным: опередил брата и даже сестре — будущей женщине — пересек путь.
Тогда я еще не отвечал за свои поступки. Иметь право не отвечать за них — такое душевное облегчение! Но предоставляется это право лишь новорожденным.
Мама рожала в обстановке обостренной «сталинской заботы» о ней и нашей семье. Нарушив все законы санитарии и гигиены, в родильном доме сгрудились корреспонденты газет, журналов и радиостанций: у Героя Советского Союза и его «боевой подруги» родилась тройня! Да еще этот патриотический акт был «сознательно» приурочен мамой и папой к взятию Берлина согласованными действиями разных фронтов под водительством маршала Жукова. Так, по крайней мере, объясняли наше коллективное появление на свет корреспонденты… Поэтому их, вместе с отцом и Еврейским Анекдотом, пустили в святилище, наконец-то покинутое страданиями и заполнявшееся не только корреспондентами, но и благостью материнства.
Вопреки правилам, наша троица расположилась непосредственно возле мамы: так удобней было наблюдать за семейством Певзнеров, фотографировать, увековечивать его голоса.
Поскольку журналисты и отец с Анекдотом облачились в халаты, можно было подумать, что осуществлялась какая-то глобальная медицинская ревизия или консультация.
Кинооператор с камерой на плече потребовал «сцены первого кормления» или, точней, инсценировки. Мама, растерявшись, стала прикладывать нас к груди на глазах у кинообъектива и журналистов, которые все как на подбор были мужчины.
— Слава требует жертв! Не терзайся… — успокаивал Еврейский Анекдот отца, который, хоть и был Героем, ревность никогда победить не мог. Анекдот успокаивал отца так, будто и сам принимал в этот момент валерьянку: он тоже предпочитал, чтобы мама увековечилась не оголяясь.
Потом, через многие десятилетия, я скажу умирающему Анекдоту:
— Абрам Абрамович, я не хочу прощаться… Вы не должны уходить… Вы так любите жизнь!
— Я любил вашу маму, — ответит мне он.
Но в первый день моего рождения он еще не сказал об этом. И не сказал никогда, никому — даже маме — до дня своей смерти.
Вспышки магния чудились вспышками салюта в честь появления тройни у Юдифи Самойловны и Бориса Исааковича Певзнеров.
Словно возражая против корреспондентской возни, мы трое орали, по-птенячьи разинув рты. Этот плач, нареченный «кликами торжества», записывали на пленку, ему посвящали абзацы будущих очерков, неизменно связывая наше новорожденное ликование со взятием фашистского логова.
Было похоже, что праздник семьи Певзнеров становится всенародным.
Один из газетчиков совершал перебежки от мамы к отцу и обратно, пригнувшись, как под огнем противника. Противниками были его коллеги: каждый пытался извлечь из супругов что-то новое, чего они еще не успели сказать другим. Журналисты панически суетились, будто опоздание или нерасторопность грозили им судом военного трибунала. Ничто не подстегивает так надежно, как страх. А он не упускал тогда ни одного события: ни трагического, ни праздничного, ни обычного.
Создавалось впечатление, что до самой семьи, столь уникально отметившей победу над Гитлером, никому из журналистов особого дела не было: они, расталкивая друг друга, пытались продолжить свою карьеру на маминых муках, на папином героизме и на редчайшем коллективизме новорожденных (все же чаще в мир входят поодиночке!).
Тот, который совершал перебежки, пригнувшись, как на войне, обратился к Еврейскому Анекдоту:
— А вас как зовут?
— Друг семьи, — ответил Абрам Абрамович, не желая превращать торжество в еврейский анекдот.
Вообще-то у евреев не положено называть детей именами живых родителей. И если имя сына совпадало с отчеством, это значило, что он явился на землю, когда отца на земле уже не было. Отец Абрама Абрамовича не дотянул до рождения сына. ЧК оборвала его жизнь за то, что он продолжил жизнь восемнадцатилетнего юнкера, укрыл его в своем доме. У юнкера не было ни единой вины: ни перед русским народом, ни перед матерью-Родиной. Хотя укрыть его и спасти вымолила не символическая мать, а та, которая родила…