Русская кухня в изгнании - Страница 2
В издательстве нас встретили радушно и даже заплатили половину гонорара. Деньги, напечатанные на той же бумаге, что и книга, вызывали сочувствие: Ленин на них двоился и хмурился, словно знал, что его ждет. Зато рублей было много – по карманам не рассовать. Хорошо еще, что из-за атавизма у нас сохранилась авоська. Гуляя по городу, мы честно несли ее по очереди, боясь глупо выглядеть с сеткой денег, но вскоре выяснилось, что на них никто не обращает внимания.
На следующий день, с трудом потратив на водку и Бердяева первую половину гонорара, мы пришли получать вторую. За ночь, однако, исчезли и писатели, и кооператоры. Даже все книги растворились в стране – несмотря на то, что от них ей тогда не было никакой практической пользы. Справедливости ради надо сказать, что на ней никто и не настаивал. В библиотеке “Русская кухня в изгнании” стояла на одной полке либо с историческими, либо уже с научно-фантастическими романами. Время, как уже говорилось, было смутное, и наш знакомый говорил: “Я не миллионер, чтобы есть яйца”.
С тех пор все изменилось. Сейчас рестораны в Москве открываются так же часто, как тогда – журналы. И поваренные книги теперь читают все, остальные – пишут. Что касается того же знакомого, то, сев на диету, он вообще не ест ничего, кроме тофу с креветками.
Тем не менее я по-прежнему отказываюсь считать кулинарную прозу более утилитарной, чем обыкновенную. Ее отличия – в другом.
Обычная литература занимается приключениями духа, кулинарная – тела. Беда в том, что первых культура нам уделила намного больше, чем природа – вторых. Не задумываясь, я могу весь день перечислять духовные радости – от Моцарта до зависти. Но физических удовольствий – раз, два, и обчелся, если не считать гимнастики.
Вопиющее неравноправие верха и низа закрепилось в искусстве. Воспевая дух и питая его, оно оставило телу лишь темные закоулки вроде забора, сортира и нередко примыкающего к ним интернета. В результате телу говорить негде и нечем. Заткнув голос плоти, литература лишила нас языка, умеющего описать самые счастливые переживания.
Кулинарная проза – второй способ обойти молчание.
Я люблю готовить, есть, писать и читать о еде. Более того, я считаю, что по-настоящему глубоко мы способны познать только съедобную часть мира. К тому же кулинария щедро раскрывает секреты каждой культуры, будучи ее наиболее глубокой – подсознательной – основой. Следуя ей, умный повар творит не размышляя – с помощью национального рецепта, связывающего историю с географией в один предельно емкий иероглиф.
Но главным все же в искусстве гастрономического письма является не культурологический, а интимный пафос. Именно он позволяет назвать целомудренной порнографией хорошую кулинарную прозу. Ведь эта тень обеда способна вызвать чисто физиологическую реакцию. И это значит, что такая литература содержит в себе неоспоримый, как похоть, критерий успеха. Если, почитав Гоголя, вы не бросаетесь к холодильнику, пора обращаться к врачу.
Эрос кухни, однако, капризен и раним. Его может спугнуть и панибратский стеб, и комсомольская шутливость, и придурковатый педантизм – обычный набор пороков, которые маскируют авторское бессилие.
Дело в том, что о еде писать трудно (не легче, чем о сексе). Как и всюду, помочь тут может только та любовь к ближним, что обращает кулинарную словесность в идиллию.
Литература, тем более великая, вовсе не видит своей задачи в том, чтобы нас обрадовать. Напротив, гении горазды повергать читателя в трепет не хуже бомбардировщика. Возможно, эти потрясения делают нас лучше, но точно, что не веселей. Зато аппетит оптимистичен по определению. Побуждая к удовольствию, он, как писатель – вдохновением, всегда готов поделиться радостью с окружающими.
По-моему, одно это оправдывает кулинарную прозу в виду вечности: эта безобидная утопия прокладывает маршрут к достижимой цели.
Нью-Йорк, 2006
Лев Лосев. Поэтика кухни
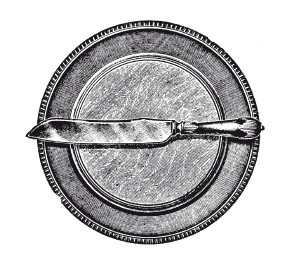
“Возбуждая аппетит и дразня воображение, закуска информирует нас о характере предстоящего обеда, настраивает наши чувства на нужный лад”, – говорит мудрец, и, книги, и автор предисловия – литераторы, нет ничего удивительного. Русская литература всегда, простите за каламбур, питалась от русской кухни. Наше знакомство с бессмертными героями классиков завязывается за обеденным столом. Дело не в том, что мы никак не избавимся от вредной привычки читать за едой, а в том, что гастрономические навыки героя оказываются обязательной частью его социального, национального и психологического портрета. Вот Онегин, сменив скепсис воодушевлением, осматривает накрытый к обеду стол:
(“Кровавый ростбиф – блюдо “английской кухни”, модная новинка в меню конца 1810-х – начала 1820-х годов, и Страсбурга пирог – паштет из гусиной печени, который привозился в консервированном виде (нетленный), что было в то время модной новинкою (консервы были изобретены во время наполеоновских войн). Лимбургский сыр – импортировавшийся из Бельгии очень острый сыр с сильным запахом. Лимбургский сыр очень мягок и при разрезании растекается (живой)…” – поясняет Ю. М. Лотман.) Перерыв между XVI и XVII строфами Главы первой уходит на поедание лишним человеком вышеперечисленных, богатых холестеролом и сатурированными жирами вкусных кушаний. XVII строфа начинается нотой сытого сожаления: “Еще бокалов жажда просит/Залить горячий жир котлет, / Но.”
Величайшим поэтом российской и малороссийской кухни был Гоголь. Пасичник Рудый Панько, старосветские помещики, тетушка И. Ф. Шпоньки появляются с ворохами кулинарных рецептов. За отделавшим осетра и хлопающим глазами Собакевичем шаркает Плюшкин с сухарем из кулича, привезенного Александрой Степановной.
Обломовская объедаловка. Облонский, обдумывающий, не изменить ли план обеда, поскольку в "Англию” вчера привезли, оказывается, устриц: хоть и фленсбургские, но свежие. Масленичные, постные и на разговение меню Чехова… И Чехов и Гончаров отнюдь не были обжорами. Толстой, как известно, вообще стал полным вегетарианцем. Пушкин был сдержан в еде. Гоголь и вовсе заморил себя голодом. То же и в наше время. "На удлинённом столе на шесть персон к их приходу уже расставлены были: осетрина копчёная, осетрина варёная, сёмга розовая в лоске жира, давно не виданная шустовская рябиновка – она существовала, оказывается! не исчезла вовсе с земли. Да что там, в углу на табуретке стоял под большой раскинутой салфеткой обещающий бочонок со льдом. Весь вид был – нереальный. они уже вычерпали уху. Свечин вынул изо льда бутылку водки да прихватил и вазочку зернистой икры. Гучков же взял маринованный грибок… Тут внесли бульон и блюдо горячих пирожков. Кажется, только что по ухе съели офицеры, но теперь и по чашке огненного бульона охотно наливали из судка. Да под бульон хватанули ещё отличной ледовой водки. Хор-р-рошо!” Это в "Октябре шестнадцатого” в Петербурге у Кюба угощает Гучков полковников Воротынцева и Свечина. Между тем Н. Д. Солженицына сообщает о своем муже: “Он абсолютно равнодушен к еде. Он может есть одно и то же день за днем” ("Вермонт лайф”, осень 1983, стр. 25). Исключительно тонкой звукописи натюрморт-меню находим и у замечательного лирического поэта Юрия Кублановского: