Римская сатира - Страница 8
Попеременно с Саганой пронзительным голосом выли,
Как украдкою бороду волчью с зубом ехидны
В землю зарыли они, как сильный огонь восковое
Изображение сжег, как, от ужаса я содрогнувшись,
Был отомщен, свидетель и слов и деяний двух фурий!
Сделан из дерева, сзади я вдруг раскололся и треснул,
Точно как лопнул пузырь. Тут колдуньи как пустятся в город!
То-то вам было б смешно посмотреть, как попадали в бегстве
Зубы Канидии тут и парик с головы у Саганы,
50 Травы и даже запястья волшебные с рук у обеих!

САТИРА ДЕВЯТАЯ
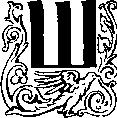
Так, по привычке моей, о безделке задумавшись. Некто
Вдруг повстречался со мной, мне по имени только известный.
За руку взяв, он сказал мне: «Ну, как поживаешь, любезный?»
«Так, потихоньку, как видишь. За добрый привет — исполненья
Всех желаний тебе!» Но, видя, что шел он за мною,
Я с вопросом к нему: не имеет ли нужды во мне он?
«Мы ведь известны тебе, — он сказал, — мы ученые люди!»
«Знаю, — ему я в ответ, — и тем больше тебя уважаю!»
10 Сам торопясь, нельзя ли уйти, я пошел поскорее,
Только что изредка на ухо будто шепчась со слугою.
Пот между тем с нетерпенья дождем так с меня и катился
От головы до подошв. «О Болан, да как же ты счастлив,
Что с такой ты рожден головой!» — я подумал. А спутник
Улицы, город хвалить принялся. Но, не слыша ни слова,
«Верно, ты хочешь, сказал, ускользнуть от меня: я уж вижу!
Только тебе не уйти: не пущу и пойду за тобою!
А куда ты идешь?» — «Далеко! Мой знакомый — за Тибром;
Там, у садов; он с тобой незнаком. Что кружить попустому!»
20 «Я не ленив — провожу!» Опустил я с отчаянья уши,
Точно упрямый осленок, навьюченный лишнею ношей.
А сопутник опять: «Если знаю себя я, конечно,
Дружбу оценишь мою ты не меньше, чем дружбу другого,
Виска[59], сказать например, или Вария. Кто сочиняет
Столько стихов и так скоро, как я? Кто в пляске так ловок?
В пенье же сам Гермоген мой завистник!» — «А что, — тут спросил я,
Чтобы прервать разговор, — есть и мать у тебя и родные?»
«Всех схоронил! Никого!»—Вот прямо счастливцы! — подумал
Я про себя, — а вот я... еще жив на мученье! Недаром,
30 Жребий в урне встряхнув, предрекла старуха сабинка:
«Этот ребенок, — сказала она, — не умрет ни от яда,
Ни от стали врага, ни от боли в боку, ни от кашля,
Ни подагра его не возьмет... Но как в возраст придет он,
Надо беречься ему болтунов!» — Вот дошли мы до храма
Весты, а дня уж четвертая часть миновала! Мой спутник
Поручился явиться в суде, а неявкою — дело
Было б проиграно. «Если ты любишь меня, — он сказал мне, —
Помоги мне: побудь там немножко со мною!» — «Я, право,
Долго стоять не могу; да я и законов не знаю!»
40 «Что же мне делать? — он молвил в раздумье. — Тебя ли оставить,
Или уж тяжбу?» — «Конечно, меня! Тут чего сомневаться!»
«Нет, не оставлю!» — сказал, и снова пошел он со мною!
С сильным бороться нельзя: я — за ним. «Что? как ныне с тобою
И хорош ли к тебе Меценат? Он ведь друг не со всяким!
Он здравомыслящ, умен и с Фортуною ладить умеет.
Если б один человек... мог втереться к нему! Помоги-ка:
Был бы помощник твой в ролях вторых! Всех отбил бы! Клянуся!»
«Полно! — ему я сказал, — мы не любим этих проделок!
Дом Мецената таков, что никто там другим не помехой.
50 Будь кто богаче меня иль ученее — каждому место!»
«Чудно и трудно поверить!» — «Однакоже так!» — «Тем сильнее
Ты охоту во мне возбудил к Меценату быть ближе!»
«Стоит тебе захотеть! Меценат лишь сначала неласков;
Впрочем, доступен он всем!» — «Ничего, как-нибудь постараюсь!
Хоть рабов у него подкуплю, а уж я не отстану!
Выгонят нынче — в другой раз приду; где-нибудь перекрестком
Встречу его и пойду провожать. Что же делать! Нам, смертным,
Жизнь ничего не дает без труда: уж такая нам доля!»
Так он болтал без умолку! Вот, встретясь с Аристием Фуском[60]
60 (Знал он его хорошо), я помедлил идти; обменялись
Мы вопросами с ним: «Ты откуда? Кугда?» Я за тогу
Фуска к себе потянул и за обе руки; и тихо,
Сделавши знак головой, сам глазами мигнул, чтоб избавил
Как-нибудь он от мученья меня. А лукавец смеется
И не желает понять. Тут вся желчь во мне закипела!
«Ты, Аристий, хотел мне что-то сказать по секрету?»
«Помню, — сказал он, — но лучше в другое, удобное время.
У иудеев тридцатая ныне суббота и праздник;
Что за дела в подобные дни, и на что оскорблять их!»
70 «Строг же ты в совести, — я возразил, — а я, признаюся,
Я не таков!» — «Что же делать! — в ответ он. — Я многим слабее:
Я человек ведь простой, с предрассудками; лучше отложим!»
Черный же день на меня! Он ушел, и остался я снова
Под злодейским ножом. Но, по счастью, истец нам навстречу.
«Где ты, бесчестный?» — вскричал он. Потом он ко мне обратился
С просьбой: свидетелем быть. Я скорей протянул уже ухо![61]
Повели молодца! Вслед за ними и справа и слева
С криком народ повалил! Так избавлен я был Аполлоном!

САТИРА ДЕСЯТАЯ

Что без порядка бегут они. Кто же, бессмысленный, будет
Столько привержен к нему, что и сам не признается в этом?
Но того же Луцилия я и хвалил — за насмешки,
Полные соли, противу Рима. Однакож, воздавши
Эту ему похвалу, не могу я хвалить все другое!
Если бы так, то пришлось бы мне всем восхищаться и даже
Мимам Лаберия[62] вслух, как прекрасным поэмам, дивиться.
Хорошо и уметь рассмешить, но еще не довольно.
10 Краткость нужна, чтоб не путалась мысль, а стремилась свободно.
Нужно, чтоб слог был то важен, то кстати игрив, чтобы слышны
Были в нем ритор, поэт, но и тонкости светской красивость.
Надобно силу уметь и беречь и, где нужно, умерить.
Шуткой нередко решается трудность и легче и лучше,
Нежели резкостью слов! То старинные комики знали!
Нам бы не худо последовать им, а их не читают
Ни прекрасный собой Гермоген, ни та обезьяна[63],
Чье все искусство в одном: подпевать Катуллу да Кальву[64]!
«Так, но ведь этот Луцилий сделал великое дело
20 Тем, что он много ввел греческих слов, примешавши к латинским».
О запоздалые люди! Вам кажется важным и трудным
То, что бывало давно у Пифолеонта Родосца[65].
«Правда, но это смешенье в стихах так для слуха приятно,
Как и хиосское вместе с фалернским[66] приятно для вкуса!»
Ну, а позволь мне спросить: хорошо ли было бы, если б
Трудное дело Петиллия ты защищал, и Корвин бы,
Педий Попликола[67] тут со своею латынью потели,
Ты же, забыв и отца и отечество, стал возражать им