При загадочных обстоятельствах. Шаманова Гарь - Страница 5
Степан Егорович ответил не сразу. Долго затягивался самокруткой, задумчиво теребил бороду, как будто вспоминал бесконечно далекое время. Наконец он заговорил:
— Тайга горела чуть не месяц. Страшно горела, по ночам на много верст светло было от пожара. С той поры вот Гарью и зовется… А Чимра?.. Андрей Чимра выполнил задание, с которым к нам приезжал, сейчас на партийной работе. Можно сказать, большим человеком стал. Организованная им коммуна в охотоведческий колхоз преобразилась, и Темелькин в этом колхозе до конца своей жизни промышлял. Крепкий старик был, посчитай до восьмидесяти годков дожил, — Степан Егорович опять помолчал, бросил окурок в печку. После этого подошел к рамке с портретом морского офицера и заговорил с нескрываемой гордостью: — А сына своего, хоть и без Дашутки я остался, на ноги все-таки поставил. Теперь Василек мой крейсером командует на Тихом океане. В журналах вот про него печатают…
— Что ж ты, Степан Егорыч, о моем отце умолчал? — с ноткой обиды вдруг спросил путевой мастер Аким Иванович, и тут только на ум мне пришла его фамилия — Колоколкин.
Иготкин повернулся к нему, заговорил, будто извиняясь:
— Неглупый мужик был Иван Михалыч, неглупый. Понапрасну подозревали его в связи с Шаманом. И все из-за гордыни Ивана Михалыча. Не мог, паря, мужик мириться с тем, что новое предлагает кто-то, а не он. Ведь признал же впоследствии коммуну, передовиком много лет на промысле являлся… — Иготкин будто осекся: — Вот со мной вышло хуже. Не смог я промышлять после Дашуткиной смерти, тоска меня задавила. Ушел в сплавщики, плоты по Чулыму гонял, потом, когда пароходство возникло, осел бакенщиком на перекате. Служу, почитай, сорок лет… Сын к себе зовет, а я от насиженного места оторваться уже и не могу. Все вокруг моим кажется! Да вон хотя бы тот кедр у избушки! Когда обстановочный пост ставили, подростком был, а сейчас как распушился!.. Многое мы с ним видели, вот только семьями не обзавелись… — В голосе Степана Егоровича послышалась грустная нота: — Ладно, пари! Спать, однако, пошли!..
Время на самом деле перевалило за полночь. За окном посвистывал осенний ветер, мягко шебаршило что-то по крыше. Это кедр, наверное, ластился к нашей избушке…
Все молча стали укладываться на покой. Погасив лампу, Степан Егорович, покряхтывая, устроился на своей лежанке. Кашлянув, обратился к путевому мастеру:
— Что, Акимушка, ноне официальный прогноз сообщает: когда река станет?
— На третью декаду октября дают ледостав.
— В декаде-то десять дней. Точнее не говорят?
Аким Иванович усмехнулся:
— Когда метеорологи точнее говорили?
— Оно, конечно… А я вот так скажу: в самый раз первого ноября на моих перекатах сплошь ледок засинеет. К тому дню и навигацию прикроем.
— По моим приметам так же выходит, — путевой мастер вздохнул. — Утречком напомни, чего тебе на зиму завезти.
— А чего мне, Акимушка, на зиму-то… Как всегда, керосину, спичек, махры побольше, мучицы пару мешков, соли, сахарку, припаса охотничьего да обязательно, не забудь, новые батарейки для радиоприемника.
— Мясную тушенку брать не будешь?
— На кой шут она сдалась. В тайге грешно консервами питаться. Год ноне удачливый был: клюквой, брусникой я с лихвой подзапасся, грибов полную кадушку насолил. А мясца захочется — в любой день глухаря либо зайчишку добуду. Одним словом, проживу, — будто подводя черту, сказал Степан Егорович и глубоко зевнул.
Прислушиваясь к ровному дыханию бакенщика, я лежал и думал о том, что есть еще на Земле сильные духом люди. И никакая беда не одолеет их, как никакая непогода не сломает набравшийся сил таежный кедр!
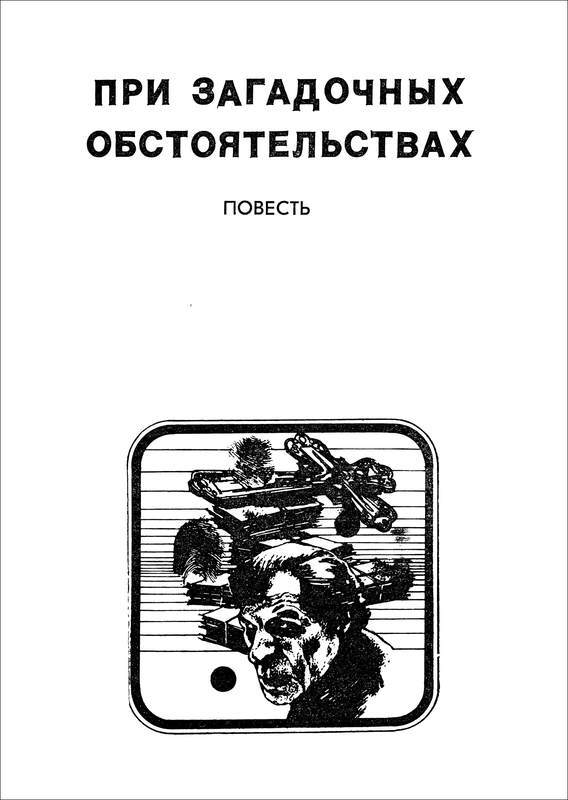

…Я рядом, в колочке, находился. Думаю: «Мать родная! Этот Шуруп вполне может мой золотой крест у Гриньки заграбастать!» Со всех ног кинулся к избушке — из нее цыганка молоденькая мелькнула, которую раньше Гриня к себе приманивал.
ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Повесть
Глава I
Такого заядлого грибника, как дед Лукьян Хлудневский, в Серебровке не знали со дня ее основания. Несмотря на свои семьдесят с гаком, старик был еще так легок на ногу, что потягаться с ним мог не каждый из молодых. От колхозных дел Лукьян отошел по «пенсионным годам» и, поскольку мать-природа здоровьем его не обидела, с наступлением грибного сезона каждый день сновал с берестяным туеском по серебровским колкам.
Тот сентябрьский день для Лукьяна начался неудачно. Едва старик засобирался, бабка Агата, обычно спокойная, заворчала:
— И когда ты угомонишься с этими грибами? Девать-то их уже некуда!..
— В сельпо сдадим, — с самым серьезным видом ответил Лукьян. — На прошлой неделе Степан Екашев с сыном полсотни рублей отхватил с кооперации за свои малосольные груздочки.
— То Екашев! У Степана копейка меж пальцев не проскочит, не то что у тебя, простофиля! Вчера-ить полный туес по деревне задарма разнес и опять направляешься!
— Не задарма — за спасибо. А деньги куда нам, старая? И пенсии хватает.
Бабка Агата безнадежно махнула рукой, склонилась над лавкой у русской печи, сердито взялась мыть картошку. Опасаясь, как бы старуха и его не втравила в домашнюю работу, дед Лукьян юркнул за дверь, забыв второпях бутылку воды — постоянную его спутницу в лесных вылазках.
Жаркий оказался день. Когда солнце поднялось высоко, Лукьян изрядно запарился. Добравшись до Выселков, — так серебровцы называли место прежних крестьянских отрубов, — дед Лукьян свернул на знакомую тропку и нетерпеливо зашагал к студеному роднику. До желанной воды оставалось рукой подать, но Хлудневский вдруг вспомнил, что у родника обосновался цыганский табор, подрядившийся слесарничать в колхозе. Дед Лукьян издавна не любил цыган и при случае старался избегать с ними встреч. Досадливо крякнув, старик поцарапал сивую бороду, развернулся и задал кругаля до колхозной пасеки. Встреча с пасечником Гринькой Репьевым, прозванным в Серебровке Баламутом, тоже особо не радовала деда Лукьяна, однако лучше уж повстречаться хоть и с баламутом, но со своим однодеревенским, чем с бродячими цыганами.
Сокращая путь, старик свернул в молоденький березовый колок и, поглядывая по сторонам — не попадется ли где попутно добрый груздь, неожиданно увидел роящихся над ворохом прошлогоднего сушняка пчел. «Х-хэ, дурехи, нашли медовое место», — усмехнулся про себя дед Лукьян. Пчелы так густо облепили хворостяную кучу, как будто под ней находилась сладкая приманка. Из любопытства старик подошел к сушняку и осторожно, чтобы не жиганула шальная пчела, стал растаскивать хворостины. Под ними оказалась алюминиевая фляга, полнехонькая свежего меда.
«Мать-моя-мачеха! Не иначе, Гринька припрятал, чтоб уворовать», — встревоженно подумал Хлудневский и, отмахиваясь от недовольно загудевших пчел, торопливо уложил хворост на место. После этого старику совсем расхотелось появляться на пасеке. Он направился к дороге, ведущей в Серебровку, но до деревни надо было шагать добрых две версты, а пасека — вот она, за колком сразу. Пить хотелось — хоть помирай. Поправив за плечами полный туес отборных груздей, дед Лукьян задумался — не узнает же Гринька, что его секрет с медовой флягой раскрыт, — и все-таки решился зайти на пасеку.
Над пасечной избушкой дрожало знойное марево. Безудержно стрекотали кузнечики. Словно соревнуясь с ними, одинокая пичуга раз за разом вопрошала: «Никиту видел, видел? Никиту видел, видел?» Рядом с избушкой, уткнувшись оглоблями в густую траву, стояла телега. За ней, раскинув босые ноги, навзничь лежал пасечник Репьев. Недалеко валялись крупные куски медовых сотов и опрокинутая металлическая чашка.