Попутное поручение - Страница 3
Анна Сергеевна и вправду помнила множество своих учеников, среди которых были отцы и матери теперешних ребят. Они вырастали, уходили из школы, и даже погибали, как Лёшкин папа, но в памяти своей учительницы они навсегда оставались молодыми.
Лёшка вздохнул и непослушными руками стал подбирать поленья. Он отнёс их в сарай, взял верёвку и потянул сани на проложенную колею. Теперь он уже знал: поленья надо складывать не поперёк, а вдоль саней: и держаться будут лучше, и больше поместится. Берёзовые поленья были сучковатые и тяжёлые, сосновые приятно и остро пахли смолой, напоминая о лете.
Лиловая тень сгустилась возле сарая, а из лохматой тучи осторожно высунулся острый нос месяца, но быстро замёрз и снова спрятался. И вдруг два светлых квадрата упали на снег. Это засветились окна в домике у Оли. Там за узорчатыми занавесками Оля, наверно, учила сейчас уроки или, подперев рукой щёку с ямочкой, читала весёлую книгу.
Олины окна сияли в морозной пустыне двора тепло и устойчиво, будто маяки. И на виду у этих окон Лёшка впрягся в сани и, нажимая животом на верёвку, двинулся в путь. Там, на Севере, олени в упряжке, наверно, бегут быстрей. Но Лёшка не унывал. Он возил и возил поленья, и гора во дворе медленно, но верно уменьшалась.
Лёшка весь был в снегу, даже галоши были набиты снегом. Но руки у него разогрелись так, что он снял варежки. Стоя на светлом квадратике и держа в руках заиндевевшую верёвку, он отдыхал.
Это был заслуженный отдых. Лёшка дышал глубоко и свободно, и змейки пара весело извивались от его горячего дыхания. Он посмотрел на кучу дров — она всё ещё возвышалась между сугробами. Ничего, что она большая! Это даже очень хорошо, что она большая!
«Нет, вы только посмотрите, сколько дров перевёз этот мальчик», — скажет мама.
«Да, да, — закивает Марья Григорьевна, — это удивительно сильный мальчик!»
Лёшка снова налёг животом на верёвку. Это нелёгкое дело — тащить цепляющиеся за мёрзлую землю сани с дровами. Но он, Лёшка, тащит! Он упирается ногами в рыхлый снег. Он изо всех сил сжимает в кулаки горячие, без варежек, руки и, падая грудью вперёд, словно пробивает невидимую стену.
Завтра, перед тем как идти в школу, Оля заглянет в сарай и спросит:
«Это ты, что ль? Один?»
И Лёшка скажет, пожав плечами:
«А то!»
Чуть ослабив на животе верёвку, Лёшка глянул на Олино окошко, и ему показалось, что там смутно виднеется круглое лицо со сплюснутым о стекло носом. Лёшка поднял голову, всматриваясь, и вдруг вспомнил: платок! Старый оренбургский платок!
И надо же было впопыхах надеть его сегодня, в такой трудный и хороший вечер, да ещё поверх шапки! Но Лёшкина душа была до краёв переполнена радостью и неожиданно появившейся силой, и он не мог огорчаться в такой час. Да и не стоило. Ведь главное — что в доме появился человек, который может заступиться за маму, может выйти вечером во двор и перевезти в сарай дрова. Да мало ли что ещё может он, мужчина в доме! А что надето у него на голове — это совсем неважно.
Павлины
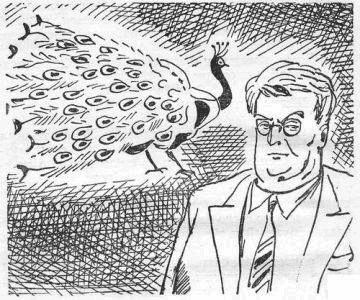
Первое время Колька только головой вертел от удивления. Всё было необычным: и сам город, будто сложенный из сахарных кубиков-домов, до краёв залитый ослепительным солнцем, и диковинные деревья — не сосна и не ель, хотя и с иголками, называвшиеся чудно: «кипарисы», и даже люди, взад-вперёд ходившие по улицам, — полуголые, в широких шляпах из соломы.
В Кержачах, где рос Колька, народ был белотелый, а эти — либо краснокожие, либо чёрные. Колька даже засомневался: «Не негры ли?» Но вскоре понял: «Нет, не негры. Люди самые обыкновенные, а чернющие оттого, что целыми днями лежат возле моря на калёном песке, выпятив к солнцу пузо».
Сначала Колька глянул и даже струхнул: лежат — видимо-невидимо, вповалку, хоть наступи на них — не шевельнутся, словно больные или мертвяки. А потом вдруг поднимутся и лезут в море.
В Кержачах моря не было. Была зато река. Большущая! По ней лес сплавляли. Но купались в реке одни мальчишки да иногда мужики со сплава. Сиганут с обрыва, вынырнут, отдуваясь и отплёвываясь, вылезут на берег и долго скачут на одной ноге, натягивая на мокрое тело портки. Оденутся и идут к зелёному ларьку пить пиво. А чтобы бабы или женщины, которые, например, на почте в окошках сидят или в конторе на машинках стучат, — те никогда не лезли в речку. А на берегу чтоб лежать… Разве только пьяный какой отсыпается.
Но вскоре Колька больше ничему не удивлялся. Колючее беспощадное солнце закрутило, завертело его, подсушило, поджарило. И стал Колька сначала красным, и собственная кожа слезала с него клочьями, потом чёрным-пречёрным, вытянулся, только рёбра торчали, как клавиши пианино, что стояло в красном уголке детдома.
Нипочём не узнали бы теперь Кольку ни его бывшие дружки, ни Марья Конопуха, ни даже сама мать, если бы она была жива.
Кольке нравилось лежать в полудрёме на горячем песке, слушать, как шлёпает рядом море, и смотреть на мелкие рваные облачка, беспорядочно бежавшие куда-то. И мысли в голове у Кольки были такие же беспорядочные: набегали, рвались…
Даже Марью Конопуху Колька вспоминал без злости. Его уже не мучило, что она поселилась у них в комнате, шарит по дому, как хозяйка, спит на маминой постели, надевает её выходное платье да ещё ругается, что оно немодное.
Казалось, это было давным-давно. Колька хотел представить себе широкое веснушчатое лицо Марьи, но оно расплывалось, как круг на воде от канувшего на дно камня.
И Колька отмахнулся:
«Чёрт с ней, с Конопухой!»
Вспомнилось почему-то, как они с ребятами, когда Колька ещё был маленьким, катались на санках с горы, а потом пришли в школу, и старенькая учительница Зоя Николаевна, покашливая, читала им сказку про трёх богатырей — смелых и сильных, которые побеждали на земле зло.
«И в жизни, дети, тоже так, — говорила Зоя Николаевна, показывая картинку, где на лошадях с копьями в руках сидели герои богатыри, — и в жизни смелые люди побеждают зло».
Но Колька, по правде говоря, не очень верил в это.
В сказках оно, может быть, и так. Там в конце концов погибали и Змей Горыныч и Кощей, хоть он и назывался Бессмертный, а богатыри оставались живыми-невредимыми, веселились и пировали. И Иван-царевич женился на красавице царевне. А в жизни…
Ярким зимним утром, когда ёлки на улицах сверкали, как в праздник, они всем классом хоронили свою старенькую учительницу.
В жизни почему-то случалось так, что хорошие и добрые умирали — Зоя Николаевна, а потом вот мать, — а плохие жили, и ничего им не делалось.
Колька не раз думал об этом, и сейчас эти мысли, вынырнув из глубины памяти, омрачили спокойный, подёрнутый золотистой дрёмой день. Колька завертелся на горячем песке, открыл глаза и с облегчением вспомнил, что уже, наверно, пора идти обедать.
Повариха страсть не любила, если кто опаздывает. Да и последнему всегда достанется что похуже. Колька не был жаден до еды, как, например, жирный, губастый Ловач, который по дороге в столовую, принюхиваясь, спрашивал: «А что сегодня?» — и в завтрак, и в обед, и в ужин. Не то чтобы Ловач был голодным: так чего-нибудь он есть не станет. А ворвётся первым в столовую и, воровато оглядываясь, сопьёт из стаканов компот, выгрызет из огурцов серединки или выест из пирогов начинку, а горбушки закинет.
Не обращая внимания на солнце, висевшее над самой головой, Колька не спеша зашагал мимо белых домов по белой от зноя и пыли дороге.
Жизнь у Кольки теперь была почти совсем хорошая. Никто не попрекал его, не нашёптывал, как Марья Конопуха отцу, что Колька такой-сякой, хуже не бывает. Правда, отец не любил, когда у него над ухом гудели. Он, бывало, терпел, терпел, а потом стукал по столу: «Хватит! Собери поесть!» И Марья Конопуха испуганно притихала. Со временем она перестала жаловаться отцу, и Колька жил, стараясь поменьше попадаться на глаза. А когда отца забрали в милицию, Марья сразу же испугалась, что Колька останется у неё на шее.