Петропавловская крепость. Побег - Страница 7
— А хоть бы и триста.
— Итак, вы признаёте, что это ваша рукопись?
— Конечно.
— И это с неё отпечатано?
— Сами видите.
— Мне только нужно было вам это показать. Вы можете, если хотите, вернуться.
— Да, — ответил я, — всё это прекрасно, великолепно, а пока пожалуйте в крепость.
Он переконфузился… встал провожать меня в дверях, протягивая мне руку, которую я не взял, опять пустился в излияния:
— Ах, князь, я уважаю вас, глубоко уважаю за ваш отказ давать показания. Но если бы вы только знали, какой вред вы себе делаете. Я не смею говорить, но одно говорю — у-жас-ный.
Я пожал плечами и вышел.
Через несколько времени меня опять позвали ещё раз, последний, в следственную комиссию. В дверях показался прокурор Масловский, перекинулся взглядом с Новицким и выбежал.
У Новицкого на столе лежало моё письмо, взятое на мне в момент ареста, с двумя паспортами. Это была коротенькая записка шифром, в которой я писал в Москву: «Вот вам два паспорта, передайте их так-то». Я не успел её отправить, когда был арестован. При аресте я не отказывался, конечно, что она написана моей рукой.
— Вот, — начал он, — ваша записка, отобранная у вас два года тому назад. Она написана шифром, и я даю вам моё честное и благородное слово, что ключ к шифру найден на одном из ваших товарищей (он был найден у Войнаральского, которому кто-то из кружка, вопреки всем уговорам, дал его, хотя Войнаральский и не был членом кружка, и Войнаральский записал его в свою записную книжку. Масса писем, писанных этим шифром, была уже в руках Третьего отделения). Замечу, кстати, что хотя наш шифр был самый простейший и хотя эксперты хвастают, что они разбирают всякие шифры, но, прежде чем ключ был найден у Войнаральского, ни одного письма они не прочли.
— Если вы знаете ключ, так зачем же вы меня спрашиваете?
— Даю вам честное слово, что мы знаем его, но мы хотели спросить вас.
— Совершенно напрасно. Удивляюсь, как вы, умный человек, не поняли, что не стоило меня беспокоить из-за такого вопроса. Вы же знаете, что я вам никогда ключа не открою.
— Да… — бормотал он, — вот и перевод вашей записки…
— И читать его не намерен. Записка — моя, перевод — ваш. Если вы думаете, что перевод верен, — на здоровье. Не моё дело его проверять.
— Да, я знал, я предвидел, конечно, но долг службы…
— И желание выслужиться? Да? Ну, прощайте.
Когда я встал, вбежал Масловский, должно быть подслушивавший у дверей.
— Ну, что?
— Я говорил вам, что напрасно было тревожить князя. Конечно, он ничего не знает…
— Ах, князь… — начал было он опять, провожая меня в коридор.
— Прощайте, — сказал я и вышел со своей сворой конвойных. Тем и кончились мои допросы.
Расскажу уже заодно, что, когда я был в доме предварительного заключения, куда меня перевели в марте или апреле в 1876 году, говорили, что теперь дело передано в суд и скоро мы будем судиться.
Меня потребовали к прокурору судебной палаты, некоему Шубину. Меня провели внутренним ходом из тюрьмы в здание суда, и там у стола сидел прокурор Шубин и писарь. Кипы исписанных фолиантов[26] лежали на столе.
Я никогда не видел человека противнее этого маленького прокурора Шубина. Лицо бледное, измождённое; большие очки на подслеповатых глазах; тоненькие злющие губы; волосы неопределённого цвета; большая квадратная голова на крошечном теле. Я сразу, поговорив с ним о чём-то, возненавидел его.
Шубин объяснил мне, что теперь предварительное следствие закончено и дело передано судебному ведомству. Теперь он обязан показать мне все имеющиеся против меня показания.
Их оказалось немного.
Один из заводских — один из кружка в тридцать пять человек — показал, что я бывал у рабочих и читал им лекции революционного содержания. Это был один юноша — не назову его, так как он, кажется, просто проболтался. Его приводили раз, кажется к Новицкому, на очную ставку. Меня спросили, читал ли я лекции рабочим. Я ответил, что никаких показаний давать не буду. Тогда в комнату ввели белокурого, конфузящегося молодого человека.
— Я вас не знаю, — сказал я очень резко, как только он переступил порог, не давши времени прокурору произнести полслова.
Молодой человек переконфузился.
— Я не знаю, не помню, я, кажется, их видел… Не помню, — забормотал он.
— Я вас не знаю, никогда не видал! — крикнул я на него.
Он ещё больше сконфузился, и прокурор, видя, что он готов отказаться от показаний, поторопился его вывести.
Сцена не продолжалась и двух минут.
Так вот, было его показание, что бывали у них лекции и на этих лекциях бывал я.
Потом ещё одно показание Егора — пустого-таки мужика, который околачивался около тех двух ткачей; он показал, что я бывал у них и говорил, что мужикам худо без земли и надо землю отобрать у помещиков. Затем были два показания двух ткачей, что я говорил им, что надо всех долой и что царя надо убить… Егор и другой (забыл имя) были шпионами.
Всё это была чистейшая выдумка, так как вся система наша, и особенно моя, была тогда такова, что нам до царя никакого нет дела, а поднимется крестьянский бунт, так царь, пожалуй, ещё сам убежит к немцам; что суть не в царе, а в том, кто землёй владеет. Но с этими двумя ткачами я и в разговоры не пускался, так как познакомился с ними, когда они промотали восемь рублей, данные им на наём квартиры, за что я их порядком поругал.
Увидя такое показание, я сразу понял, что оно продиктовано следователями, известно, с какой целью.
— Ну, этаких свидетелей я вам по двадцать пять рублей сколько хотите найду, — сказал я.
— А кто же это, позвольте спросить, — зашипел Шубин, — будет им платить?
Я подумал секунду.
— Вы, — сказал я, видя его злобное лицо, и ткнул в его направление пальцем.
Он просто позеленел от злости. Не то что побледнел или пожелтел, нет, так-таки зелёным стал.
Я продолжал просматривать, что ещё будет против меня. Протоколы о программе, писанной моей рукой, о конце «Пугачёвщины» — тоже моя рукопись, которую бог знает зачем берегли товарищи, о шифрованном письме.
— Ничего больше?
— Вот ещё, — подсунул писарь другое толстейшее дело, заложенное бумажками.
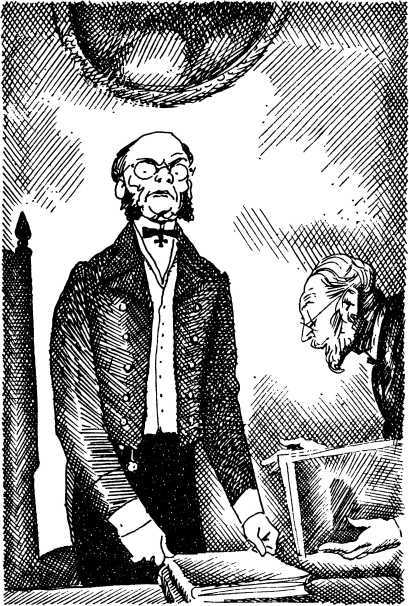
«Вот ещё», — подсунул писарь другое толстейшее дело…
Показания заводских, что они не помнят, чтобы я говорил против царя.
И показание милейшего Якова Ивановича[27]: «Таких речей не слыхал, а что Бородин[28] сильно бранил такого-то и такого-то (обоих ткачей) за то, что они промотали деньги, данные им, чтобы нанять квартиру, точно помню; сильно бранил: не мотайте, мол, денег попусту».
— Только?
— Только.
Я взял перо и на подложенном листе написал крупным почерком, что никаких показаний до суда давать не намерен.
ИЗ КРЕПОСТИ В ГОСПИТАЛЬ
А годы шли, и мы всё сидели в крепости.
Вот уже два года прошло; несколько человек умерло в крепости, несколько сошло с ума, а о суде ничего не было слышно.
Моё здоровье тоже пошатнулось в конце второй зимы. Табуретка становилась тяжела в руке, делать мои семь вёрст мне становилось всё труднее и труднее. Я крепился, но «арктическая зимовка», без подъёма сил летом, брала своё. У меня уже раньше были признаки цинги: раз весною она объявилась у меня в слабой степени в Петербурге. Должно быть, я вывез её из сибирских путешествий на одном хлебе, а петербургская жизнь и усиленная работа в маленькой комнатке не способствовали полному избавлению.
Теперь, во тьме и сырости каземата, да ещё при усиленной мозговой работе, признаки цинги становились яснее: желудок беспрестанно отказывался переваривать пищу. К тому же на прогулку меня выводили теперь только на двадцать минут или четверть часа, через два дня. В короткие зимние дни за пять-шесть часов успевали выпустить всего двадцать человек в день, а нас, заключённых, было свыше шестидесяти человек.