Охотничьи тропы - Страница 13
Я все же пристроился к Брагину. Раздумывая, что делать, закурили на лесной опушке, уже полностью освещенной солнцем тихого весеннего утра. И вдруг — на ловца и зверь бежит — видим летящего в нашу сторону глухаря. Шагах в ста он тяжело опустился на вершину сосны, распустил хвост и сразу запел.
Я вскидываю свое ружье в надежде, что заряд крупной картечи преодолеет это расстояние. Товарищ Брагин берет стволы моего ружья и отводит их, говоря:
— Ничего не выйдет.
Я вопросительно посмотрел в глаза моего авторитетного спутника.
Под песню глухаря он ответил:
— Тозовка возьмет. Смотрите, я сниму сучок над глухарем.
Я смотрю и слушаю.
Щелк! И сучок срезан.
— Теперь смотрите, я сниму сучок пониже глухаря.
После щелка упала нижняя ветка.
Пусть так, пусть все это спортивно, интересно, но это же пытка для охотничьего сердца. Сейчас, сейчас птица улетит. А мой спутник спокойно занят ненужной пристрелкой своей тозовки. Я знал — он пристреливает расстояние, но разве можно производить такие опыты с самой ценной и осторожной птицей?
Наконец, он шепчет:
— Стреляю в зоб.
Ну, думаю, чорт с ним. Пусть улетает глухарь, лишь бы кончились эти мучительные для охотника минуты.
Щелк! И тяжелая птица, битая насмерть, грузно падает.
Алексей Петрович подарил мне эту великолепную добычу, взятую мелкокалиберной пулькой из винтовочки Тульского оружейного завода. Я смотрел на красивую птицу, а в душе любовался не ее красотой, а прекрасным выстрелом, любовался человеком, который так точно владеет искусством стрельбы.
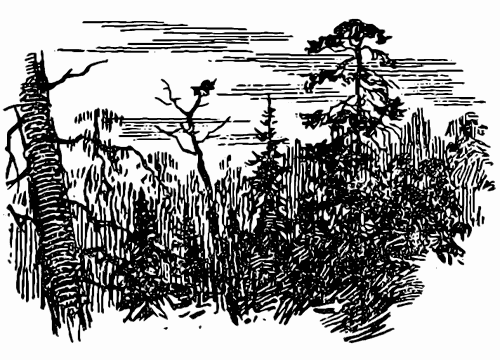
М. Зверев
ФАКЕЛЬЩИК
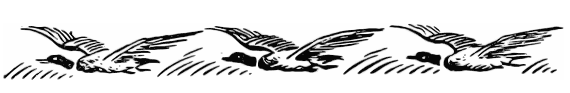
Из небольшого сибирского городка мы вышли вечером, когда солнце было уже над самым лесом, но до глухариного, тока было недалеко, и мы думали успеть с вечера послушать, где будут садиться глухари.
Вскоре солнце уже почти село и освещенные им стволы сосен сделались кирпичного цвета. Лужицы снеговой воды стали быстро подмерзать и тонкий ледок захрустел под ногами.
Белобровые и певчие дрозды распевали, сидя на самых вершинах сосен. Звонкие голоса мелких птичек сливались в замечательный весенний хор, создавая бодрое, настороженное чувство, знакомое каждому охотнику — любителю природы.
Пара косуль внезапно выскочила из молодой поросли сосняка в ложбинке и замелькали белыми задиками среди стволов деревьев. Долго еще был слышен хруст по замерзающим лужицам от их ног.
Вот, наконец, и место, где мы должал слушать прилет глухарей. Но на пеньке около поваленной сосны сидел охотник, спиной к нам.
Мы молча переглянулись: трое на одном току недалеко от города, где будет петь утром самое большее 5–6 глухарей — это не охота!
Заслышав наши шаги, охотник оглянулся. Видимо, он тоже не обрадовался, увидя нас.
Но делать было нечего. Мы закурили и сели рядом.
Охотник был уже седой старик из местных старожилов. Старая мелкокалиберная берданка стояла около ствола сосны. Шейка приклада у ней была тщательно затянута проволокой, а трещина от перелома тянулась почти до середины ложа и в двух местах была скреплена планками. Очевидно, берданке было столько же лет, сколько и деду.
Мы поставили свои новенькие тулки рядом.
Начинало быстро темнеть.
— Опоздали, ребятки… — обратился к нам дед, — петухи-то уже сели. Двое подшумели сегодня, как только солнышко начало садиться.
— Ну, что же делать, — отвечал я, — мешать тебе дед не будем, ты первый пришел, а мы пойдем утром на речку искать уток.
— Ась, чего ты сказал? — переспросил дед, — глуховат я, сынок.
Пришлось повторить сказанное.
— А как же ты будешь, дедушка, к глухарям-то утром под песни подскакивать, раз ты глуховат? — снова спросил я, на этот раз преувеличенно громко.
— А зачем мне до утра ждать. Вот они разоспятся немного, стемнеет как следует, ну, я сыму их обоих и домой. До города тут недалеко. С середины ночи я уже дома спать буду.
Мы с товарищем переглянулись.
— Дедушка, мы хоть и помоложе тебя, — запротестовал мой товарищ, — но в глухариной охоте кое-что понимаем.
— Чего ты сказал? — переспросил дед. — Видать, вы ребята не здешние? На подлет опоздали, факелов у вас нет. Тоже охотники…
Дед, кряхтя, встал, чиркнув спичкой, сунул ее в кучу хвороста, приготовленную им очевидно еще засветло для костра. Огонек весело забегал, и костер быстро разгорался.
— Что ты делаешь, дед? — опять заволновался мой товарищ. Напугаешь глухарей-то огнем. Сам говоришь — двое уже прилетело. Не будут ведь утром петь.
— Чего? Кто поет? — переспросил опять дед.
— Глухари-то утром, говорю, петь не будут, напугаешь, ведь огнем, — уже сердито крикнул товарищ, нарушая все правила глухариной охоты, требующей прежде всего тишины..
— Ну вот, сразу видать — не здешние вы, ребята. Сказывал же я вам, что я их сыму еще ночью, — ответил невозмутимо дед.
— Слушай, дед, — спросил я громко, — ты же ничего не слышишь, а говоришь — двое глухарей село. Как же ты мог услышать их посадку?
— А вот вы что… сумлеваетесь, — улыбнулся дед, — да я и не слушаю сам, где уж мне, раньше-то, конечно, слушал сам, ну, а теперь Муська слушает за меня.
— Какая Муська?!..
Но едва дед произнес слово Муська, как в полосу света костра откуда-то из темноты вынырнула крохотная комнатная собачонка с перевязанной марлей мордочкой.
Она подбежала к деду и завиляла хвостом.
— Ах ты, грех какой, я и забыл ей рыло-то развязать, — удивился дед. — Вот она у меня сидит на коленях и слушает на солнцезакате, в какой стороне зашумит петух, садясь на сосну. Она сразу вздрогнет и начинает туда лаять. Ну, я и примечаю. Лаять-то ей я не даю, звонкая больно она, вот рыло ей и завязываю. На двоих сегодня она показала, там и там, — дед ткнул пальцем в темноту вправо и влево от костра.
— Ну, а как же ты ночью глухарей стрелять собираешься? — снова спросил я.
— А мы их здесь всегда по ночам берем. Вот уже, пожалуй, и пора настает, обсиделись они и стемнело вовсе. Хотите взглянуть, покажу — не жалко. Глухарей-то у нас много.
Дед вытянул из сумки бересту и, вынув из берданки шомпол, нацепил на него один из кусков бересты и поднес к огню. Береста сейчас же свернулась в спираль. Дед сбросил ее и нацепил новый кусок. Довольно быстро он наготовил целую кучку таких спиралей.
— Ну, пожалуй, хватит, — сказал дед, вопросительно взглянув на нас.
Мы с удивлением следили за его приготовлениями и молчали.
— Ну, что же, пошли — пора уже, — сказал дед, вставая.
— А мы тебе не помешаем?
— Да нет, идемте.
Дед протянул руку и достал из темноты длинную палку, расщепленную и закопченную на одном конце, с острым железным наконечником на другом. Он всунул в расщепленный конец берестовую спираль, поджег ее на угасающем костре и поднял палку вверх.
Яркое пламя горящей бересты сразу озарило всю полянку и стволы сосен.
— Ну, пошли, — сказал дед, надевая на плечо берданку, и зашагал вслед за убегающей от него темнотой. Мы молча шли за ним.
Пройдя несколько десятков шагов, дед начал подходить к стволам сосен и внимательно оглядывал их, освещая снизу. Минут десять он шарил под соснами, время от времени меняя сгорающую бересту на новую.
— Что же это такое? — наконец, проворчал дед, — неужели Муська зря брехала? Он заменил бересту новой и подошел опять к стволу ближайшей сосны. Взглянув вверх, дед вдруг с силой воткнул острие своего факела в землю и, освободив обе руки, не торопясь, стал снимать берданку.
Мы поспешно подошли и взглянули вверх.
Около ствола, в поддереве сидел глухарь, хорошо освещенный светом факела, и мирно спал, засунув голову под крыло.
Дед прицелился и нажал спуск, но берданка осеклась.
Глухарь испуганно выдернул голову из-под крыла, однако с места не сдвинулся. Факел начал гаснуть.