Одиссея последнего романтика - Страница 1
Аполлон Григорьев
Московский никогда не умолкал Парнас,
Повсюду муз его был слышен лирный глас.


Составление, вступительная статья и примечания Л. Л. Осповата
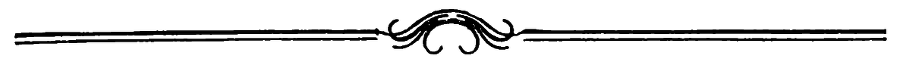
К портрету Аполлона Григорьева
Личность Григорьева сформировалась на самом излете романтической эпохи, и он смолоду ощутил себя одиноким, несменяемым хранителем ее ценностей и обычаев.
Этому культурному статусу соответствовало «метеорское» (по его собственному слову) жизнеповедение, почти никогда не подчинявшееся общепринятым нормам и почти всегда непредсказуемое. Как бы со стороны разглядывая тот человеческий тип, который он представлял едва ли не в единственном числе, Григорьев высказался весьма откровенно: «Столь упорной воли с величайшей бесхарактерностью, горячей веры с безобразным цинизмом, искренних убеждений с отсутствием всяких прочных основ в жизни… право, я не умею иначе назвать, как хаосом моего последнего романтика»[1]. По отзыву близкого к нему в начале 1860-х гг. Н. Н. Страхова, Григорьев «старался возводить свои мысли и чувства до идеальной глубины и чистоты; если же обрывался в этих усилиях, то прямо переходил в противоположную крайность и погружался в беспорядок жизни с каким-то сладострастием цинизма» [2].
Следует, однако, уточнить: движение от «высокого» к «низкому» (как и возвратное) отнюдь не всегда было безостановочным. Григорьев опытным путем изучил состояние «хандры», подразумевавшее и обыкновенную апатию, и то, «что у хороших людей зовется угрызениями совести», и такое томление духа и души, которое в русской романтической традиции — вслед немецкой — именовалось Sensucht. Другое дело, что и этой тоской Григорьев, по выражению Достоевского, заболевал «весь, целиком, всем человеком, если позволят так выразиться»[3].
Столь интенсивное («во вся распашку») переживание жизни, сам склад его натуры, которой владели неуемные страсти, исключали всякую надежду на благоустройство дел — личных, бытовых, профессиональных. В глазах большинства современников Григорьев выглядел романтическим поэтом именно из-за своей непрактичности; когда он пускался в расчеты или рассуждал о выгодных занятиях, то походил на совершенного ребенка. «Неумелый человек одно только умел, — свидетельствовал Страхов, — следить за умственным и эстетическим движением нашим, чувствовать и понимать все явления в нашем мире искусства и мысли. Сюда были устремлены все силы его души; здесь была его радость и печаль, долг и гордость»[4].
Впрочем, шагать в ногу с двумя-тремя единомышленниками он тоже не умел; постоянно выбивался из строя и гораздо больше дорожил «своими самодурными убеждениями»[5], нежели единством тесного кружка. Незадолго до смерти он заспорил о чем-то со Страховым. «Может быть, ты, однако же, более прав», — заметил под конец Страхов. «Прав я или не прав, — перебил его Григорьев, — этого я не знаю; я — веяние»[6].
Название этой книги принадлежит Григорьеву: некоторые его произведения, вышедшие на рубеже 1850—1860-х гг., имеют повторяющийся подзаголовок — «Из «Одиссеи о последнем романтике». Но, в сущности, свою «Одиссею» он безотрывно писал с тех самых пор, как взялся за перо; автобиографическое начало доминирует в его поэзии, прозе, публицистических статьях, не говоря уже о мемуаристике.
Собственно воспоминания Григорьева обрываются на «эпохе, когда журчали еще, носясь в воздухе, стихи Пушкина и ароматом наполняли воздух повсюду, даже в густых садах диковинно-типического Замоскворечья». В 1838 г., шестнадцати лет, Григорьев поступил в Московский университет, который блестяще окончил в 1842 г. Университет предоставил ему необременительную службу, но вскоре, испытав глубокое потрясение (Антонина Корш, предмет его любви, предпочла К. Д. Кавелина), он буквально бежал из Москвы; намечен был дальний маршрут, однако Григорьев осел в Петербурге, где и вступил на литературное поприще.
Почти три года, проведенные им в столице, — «полоса жизни совершенно фантастическая»; он поочередно или даже одновременно увлекался самыми различными философскими системами и идейными течениями (включая шеллингианство, масонство, христианский социализм и многое другое), и у Блока, который в начале XX в. заново открыл эту фигуру для читательской аудитории, были резоны, чтобы заключить: «Григорьев петербургского периода, в сущности, лишь прозвище целой несогласной компании…»[7] Отметим здесь повышенную интеллектуальную восприимчивость и такую же готовность ревизовать и осмеивать чуть ли не каждую доктрину — это признаки вырабатывающегося адогматизма Григорьева. Уже в середине 1840-х гг. он скептически оценивает славянофильство и западничество как замкнутые идеологические структуры, предполагавшие четкое разделение людей на «наших» и «не наших», а также канонизировавшие свои опорные постулаты, по отношению к которым (внутри соответствующей структуры) не допускалось ни сомнения, ни иронии. И недаром в «Кратком послужном списке…», составленном Григорьевым за три недели до кончины, под 1846 г. отмечено: «…городил в стихах и повестях ерундищу непроходимую. Но зато свою — не кружка»[8].
Атмосферу тревожной взвинченности, которая окружала Григорьева в Петербурге, лучше всего передает его повествовательная и очерковая проза 1840-х гг. Внимание автора занимают преимущественно два человеческих типа. Это, во-первых, рефлектирующие индивидуалисты, «которые, слишком рано предавшись наслаждениям, теряют вкус ко всем»[9], обрекая себя на двойной разлад — и с миром, и с собственной жизнью. Выводя подобных персонажей, Григорьев словно откликался на призыв глубоко чтимой им Ж. Санд «описать болезнь тех, кто жил» (одним из главных симптомов этого общеевропейского недуга, распространившегося в первую половину XIX в., являлась «ярость сил, которые стремились все постичь, всем обладать, но от которых все ускользает, даже воля…»[10]). Второй тип, довольно полно обрисованный в григорьевской прозе, — демонические личности, которые порвали с будничной моралью, исповедуя тот вид романтического максимализма, что признает лишь высшую, «эксцентрическую», форму страсти («Истинно и сильно только то, что ничего не знает истиннее и сильнее себя; любовь, например, только тогда любовь, когда ее ничто не остановит…»[11]) и санкционирует любую акцию, совершенную по ее внушению («Пусть я погублю ее — я ее люблю…»[12]).