Молодые граждане (Рассказы) - Страница 6
— Что, сорвало бакен?
— Плотовищем или корчей разбило! Ничего! Все в порядке! — отвечает Ефим Кондратьевич.
Фигура выпрямляется, серая громадина, громко дыша машиной, проплывает мимо, и скоро только удаляющиеся огни да волны, подбрасывающие лодку, свидетельствуют, что пароход не привиделся, а действительно прошел мимо них.
Косте хотелось крикнуть, рассказать всем плывущим на пароходе о том, что сделали они, дядя Ефим и Костя, какие они герои. Он заранее представлял, как собьются у поручней испуганные, потрясенные пассажиры, как с ужасом будут смотреть на то место, где над Каменной грядой зыбится волна, и на Костю — с восторгом и благодарностью. Но пассажиры спокойно спят, ни о чем не подозревая, а вахтенный на мостике, может, даже и не заметил Костю.
Бледный сумеречный рассвет приподнимает небо, раздвигает обзор. Вот уже еле-еле различимо виднеется берег, остров. Теперь можно оставить Каменную гряду — скоро станет совсем светло, и она не будет так опасна.
Ефим Кондратьевич гасит фонари, отцепляет багор, кошку, и лодку подхватывает течение. Обратно Костя гребет уверенно и спокойно: при свете страшное не так страшно.
Дома Ефим Кондратьевич первым делом зажигает огонь, ставит чайник и достает четвертинку водки.
— Раздевайся! — командует он.
— Да я ж… Мне уже не холодно. Я уже закаленный, — протестует Костя.
— Ну, раз закаленный, тогда тем более не опасно. Раздевайся!
Костя раздевается, Ефим Кондратьевич наливает на руку водки и начинает растирать Костю. Рука у него шершавая, как наждак, Костина кожа сразу краснеет и начинает гореть, как ошпаренная.
— Будет! Да будет же, дядя Ефим, мне уже жарко! — упрашивает Костя.
Однако дядя продолжает натирать, потом кутает Костю в тулуп. Оставшуюся водку он выпивает и ставит на стол фыркающий чайник.
Они едят черный посоленный хлеб, пьют крепкий до черноты чай. И Косте кажется, что раньше он не ел и не пил ничего вкуснее. Кожа горит, по всему телу разливается тепло, лицо его начинает блестеть от пота. Он заново рассказывает о том, как началась гроза, как он испугался, и теперь ему почему-то не стыдно в этом признаваться. Может быть, потому, что испуг испугом, а все-таки он сделал все, что было нужно…
Ефим Кондратьевич курит свою трубку, слушает Костю и одобрительно кивает. А потом, когда язык у Кости начинает заплетаться, а голова кланяться столу, он тихонько берет его в охапку, укладывает в постель и укрывает.
— Да я же совсем не хочу спать! Я даже и не засну… — еле двигая непослушным языком, протестует Костя и тут же мгновенно засыпает.
Ефим Кондратьевич гасит не нужную уже лампу, одевается и уходит.
Костя спит долго и глухо, без сновидений. Ползущий по комнате солнечный луч подбирается к его лицу, Костя жмурится, морщится — и просыпается. В комнате прибрано, пол вымыт. За окном взапуски звенят кузнечики, кричат стрижи. Костя выходит из комнаты. На веревке сушатся его штаны и куртка, на берегу что-то полощет Нюра. Костя идет к ней, с удивлением ощущая все свое тело. Оно налито тяжестью еще не прошедшего напряжения, пальцы стоят граблями, их трудно сгибать и разгибать. На ладонях вздулись волдыри, исцарапанная кожа саднит. Косте приятно ощущать и эту тяжесть в мускулах и жжение в ладонях.
Берег прибран и умыт грозой. Еще зеленей кажется высокая луговая трава, пышнее ветлы и тальник, чище небо и голубее бегучая дорога реки. Никогда это не казалось таким радостным и красивым, никогда так хорошо и радостно еще не было Косте. Почему? Костя об этом не думает. Ему просто весело и хочется сделать так, чтобы стало еще веселее. Он разбегается и со всего разгона ныряет в воду возле Нюры. Нюра отшатывается, едва не падает в воду.
— Ой, какой же ты исцарапанный! И синяки! Вот и вот! — сочувственно и восхищенно говорит она, когда Костя выходит на берег. Она уже знает обо всем от отца, но ей хочется узнать как можно подробнее, и она тормошит Костю: — Ну же, рассказывай! Ты с тато плавал на лодке? Да? Страшно было? Мне — очень! Так гремело, так гремело — прямо ужас! А молнии так в тебя и целят! Правда! Я хотела домой, только бабушка не пустила. А то бы я с вами тоже… Да и через яр не пройти. Даже утром трудно было пройти — так и крутит, так и крутит! Тато меня на закорках перенес.
— А где дядя Ефим?
— Бакен ставит. Он утром пришел в село. Мокрый, в глине весь — через яр шел… Потом председатель колхоза выделил двух человек, вот они ставят теперь бакен… Ну, чего ж ты молчишь? Рассказывай!
Костя рассказывает, но в описании все получается не так страшно и трудно, как было на самом деле. Нюра восхищается и сама подсказывает, понукает его, но это только заставляет Костю рассказывать еще скупее и суше.
И что особенно рассказывать? Все сделал дядя, а он только помогал грести и вычерпывать воду. Ну, поехал в грозу, ну, было страшно. Вот и все. Какое же тут геройство? Важно, что пароход благополучно миновал гряду и пошел дальше, в Каховку, где его мама и много-много всяких людей будут строить гидроузел. Разве можно им задерживаться? Это же стройка коммунизма!..
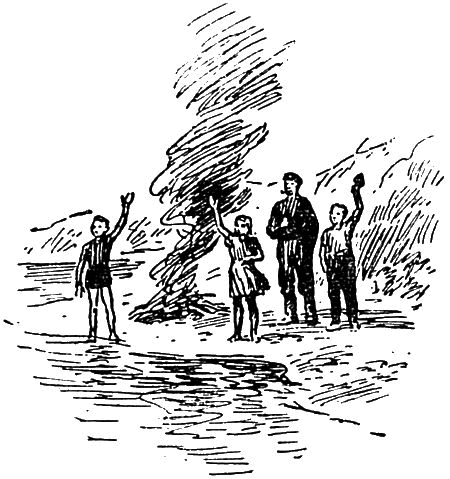
Виталий Валентинович Бианки
Егоркины заботы
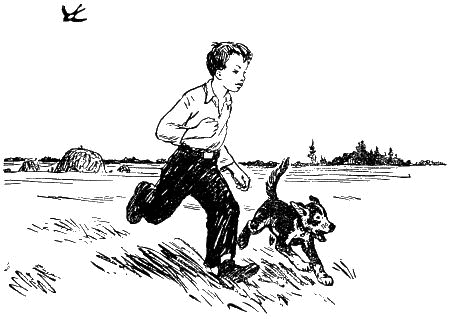
— Егорка! Егорушка! — сквозь глубокий сон дошел до Егорки настойчивый голос матери. И еще что-то говорила мать, но Егорка в ответ только мычал, как теленок, пока не услышал слово «рыбалка».
Тут он сразу вспомнил, что просил мать разбудить его еще затемно, чтобы идти удить рыбу.
Егорка вскочил и протер глаза.
В окошко чуть брезжил рассвет.
В избе было еще совсем темно. Храпел старший брат, тикали на стене ходики.
Не прошло и пяти минут, как Егорка вышел на крылечко, надел на шею холстяную, всю в рыбьей чешуе, торбочку, подхватил удочки и вышел на улицу.
Только за ним хлопнула калитка, из-под крыльца вылез Бобик — лопоухий щенок непонятной породы на несуразно длинных ногах, — потянулся, зевнул, озабоченно понюхал Егоркин след — и помчался за ним.
В большой избе правления колхоза горело электричество.
«Гляди-ко! — подумал Егорка. — Анатолий-то Веденеич тоже уже поднялся. Зайду-ка проведать».
Он прислонил удочки к крыше и вошел в избу.
Председатель колхоза «Красная заря» Анатолий Веденеевич положил толстый карандаш на бумагу, где что-то подсчитывал, и поднял голову:
— Эге! Егору Бригадирычу! Что больно рано поднялся?
— А вы, видать, так и не ложились?
— Да, вишь, дела много, время-то горячее, сам знаешь — сенокос, — сказал Анатолий Веденеевич, потягиваясь и разминая отекшие руки. Он любил потолковать о колхозных делах с ребятами, особенно с сыном бригадира — Егоркой.
— А что сенокос! — сказал Егорка. — Отец говорил — сегодня последний луг кончает на сенокосилке.
— То-то вот и оно! — подхватил председатель. — Свалить-то недолго, а вот высушить… Сотни центнеров скошенной травы еще осталось на лугах колхоза. Ну, как дождь зарядит? Сено — ведь это наши коровушки, — продолжал председатель. — Их надо обеспечить кормом. Сам понимаешь: в сенокос день год кормит. Каждую сенинку надо сберечь, просушить да в скирды убрать. А еще неизвестно, как погода простоит. Давай-ка, поглядим с тобой, что барометр говорит.
С этими словами председатель встал из-за стола и подошел к висевшему на стене круглому аппарату, похожему на небольшие стенные часы, только стрелка на этом аппарате была одна, и на белом кругу под стеклом были надписи: «Буря — Осадки — Переменно — Ясно — Великая сушь». Сейчас стрелка показывала прямо вверх, на середину слова «Переменно».
Председатель легонько стукнул согнутым пальцем по стеклу аппарата.
Черная стрелка вдруг сорвалась с места и скакнула налево вниз, стала против слова: «Осадки».