Избранное - Страница 128
Второй землекоп, худой и неповоротливый, тот, что, казалось, не понимает жизни, добиваясь от нее какого-то смысла, какого-то решения, оказался более доступным, более близким ей. То ли из-за поведения этого мужчины, то ли потому, что она владела им много раз.
После пяти часов она, закрыв глаза, продиралась сквозь синасину. Медленно зализывала царапины на руках. Неуклюжий, неуверенный, ничего не понимая, второй землекоп являлся к шести, и она уводила его в сарай, в котором пахло хлевом и овечьей шерстью.
Раздетый, он превращался в ребенка, пугливого, жалкого. Женщина пускала в ход все свои воспоминания, свои внезапные вдохновенные выдумки. Она приучилась оскорблять его, бить по лицу, нашла в щели между цинковой стеной и крышей старый, брошенный кнут.
Ей нравилось подзывать его свистом, как собаку, щелкая пальцами. Одна неделя, две недели или три.
Но каждый удар, каждое унижение, каждая вырванная радость вели ее к жаркой полноте лета, к кульминации, за которой мог последовать только спад.
Она была счастлива с этим парнем, и часто они плакали вместе, каждый не зная, о чем плачет другой. Однако же, медленно и неизбежно, женщина возвращалась от безнадежного, безысходного сексуального возбуждения к потребности в любви. «Лучше, — думала она, — быть одинокой и печальной». Она больше не виделась с землекопами; выходила в сумерках, после шести, и тайком пробиралась к живой изгороди.
— Кровь, — будил ее мужчина, вернувшись с рассветом. — Кровь на руках и на лице.
— Пустяки, — отвечала она, стараясь снова заснуть. — Мне все еще нравится играть с деревьями.
Однажды ночью мужчина вернулся и разбудил ее. Ослабив узел галстука, он наполнил рюмку. Сидя на кровати, женщина услышала его смех и невольно сравнила этот странный звук с ясным, свежим, неудержимым хохотом былых лет.
— Мендель, — проговорил он наконец. — Твой великолепный, непобедимый друг Мендель. А следовательно, и мой сердечный друг. Вчера угодил за решетку. Мои бумаги и документы здесь ни при чем, просто он неизбежно должен был этим кончить.
Она попросила виски без содовой и выпила рюмку одним глотком.
— Мендель, — сказала она с удивлением, не в силах понять, вникнуть.
— А я-то, — пробормотал мужчина, и голос его звучал искренне, — целый день раздумывал, что будет для него лучше, если я передам судье эти грязные бумажки или сожгу их.
Так шло, пока в середине лета не наступил вечер, который она предвидела очень давно, когда у нее еще был свой одичавший сад и еще не приходили землекопы, чтобы его уничтожить.
Она прошла через задавленный цементом сад и, улыбаясь, уже привычным, давно выработанным движением бросилась в заросли синасины.
И неожиданно наткнулась на мягкость и податливость, словно кусты вдруг превратились в резиновые прутья. Колючки уже неспособны были ранить, из них проступала, стекая ленивыми каплями, липкая, белесая, молочная жидкость. Она потрогала другие стволы, и все оказались одинаковыми — послушными, безобидными, источавшими влагу.
Сначала она пришла в отчаяние, потом смирилась: это уже стало привычкой. Пять часов вечера давно миновало, рабочие ушли. Сорвав мимоходом несколько цветов и листьев, она остановилась помолиться под бессмертной араукарией. Кто-то кричал, от голода или от страха, на втором этаже. Держа в руке смятый цветок, она стала взбираться по лестнице.
Она покормила ребенка, и он, насосавшись, уснул. Потом перекрестилась и побрела в спальню. Порывшись в шкафу, она почти сразу же нашла среди рубашек и трусов бесполезный, ни на что негодный «смит-вессон». Все это была игра, обряд, вступление.
Но, увидев голубоватый блеск оружия, она снова стала повторять первую половину «Ave Maria»; доплелась до кровати, упала на нее, вспомнила, как это было в первый раз, и почувствовала необходимость забыться, плакать, снова увидеть луну той ночи, отдаться всем своим чувствам, как девчонка. Ледяное дуло мертвого револьвера прошло между зубами, уперлось в небо.
Вернувшись в комнату ребенка, она отняла у него горячую грелку.
В спальне завернула в нее «смит-вессон» и терпеливо дождалась, пока дуло приобрело человеческое тепло, так нужное ее жаждущему рту.
Она смело исполнила всю комедию. Затем прослушала без спешки, без страха три холостых щелканья курка. Услышала, через несколько секунд, четвертый выстрел, вогнавший пулю ей в мозг. Теряя сознание, она вернулась в первую ночь, клуне, снова почувствовала, как разливается по горлу вкус мужского тела, так похожий на свежую траву, на счастье, на летний отдых. Она упорно следовала за каждым поворотом разрушенного сна и рассудка, вспоминая ощущение усталости, и снова, полунагая, поднималась вверх по нескончаемому склону, согнувшись под тяжестью пустого чемодана. Луна все росла и росла. А она, сверля ночную тьму маленькими грудями, блестящими и твердыми, как цинк, шла, не останавливаясь, дальше, пока не погрузилась в безмерную огромную луну, которая уверенно ждала ее столько лет, впрочем, не так уж много.
УКРАДЕННАЯ НЕВЕСТА
© Перевод. Раиса Линцер
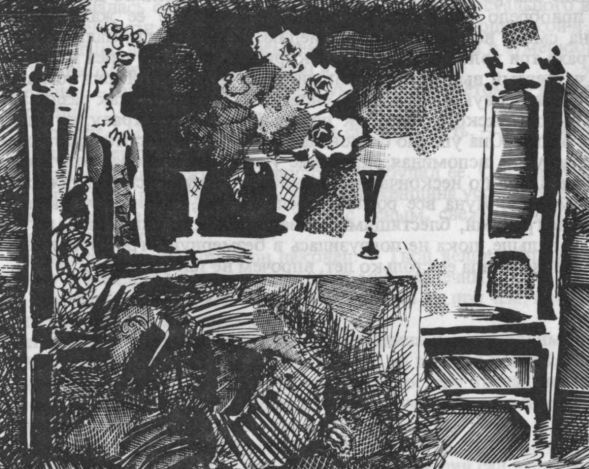
В Санта-Марии ничего не происходило, была осень, мягкий блеск бледного солнца, медленно, неуклонно угасавшего. Так казалось всем сантамарийцам, которые смотрели на небо и землю, прежде чем примириться с обязательной несправедливостью работы.
Право же, той осенью, которую я вытерпел в Санта-Марии, ничего не происходило, пока пятнадцатого марта не началось, без бурных событий, мягко, словно «клинекс», который женщины прячут в своих сумках, мягко, словно бумага, шелковая, шелковистая бумага, скользящая между ягодицами.
Ничего не случилось в Санта-Марии той осенью, пока не настал час — нет, почему же проклятый или роковой или определенный и неизбежный? — пока не настал счастливый час лжи и желтизна не начала проступать на краях венецианских кружев.
Мне сказали, Монча, что эта история уже была описана, а также — что менее важно — пережита другой Мончей на юге, который освобождали и громили янки, в каком-то уголке Бразилии, в некоем графстве Англии с ее театром «Олд Вик».
Я сказал, Монча, что это неважно, ибо тут ведь нет объяснения в любви, уважении или верности. Думаю, ты всегда знала, что я любил тебя и что все слова, которые сказаны раньше и последуют позже, так бессильны оттого, что порождены жалостью. Ты бы предпочла слово «сострадание». Говорю тебе об этом, Монча, несмотря на все. Многие будут призваны прочесть эти слова, но только ты, и именно теперь, избрана, чтобы их услышать.
Теперь ты бессмертна, и, несмотря на прошедшие долгие годы, о которых ты, возможно, вспоминаешь, тебе удалось избежать морщин, причудливого рисунка расширенных вен на опухших ногах, печального отупения твоего малого разума, старости.
Всего несколько часов назад я пил кофе с анисовым ликером, а вокруг сидели ведьмы, которые прекращали свою болтовню лишь затем, чтобы посмотреть на тебя, Монча, или пойти в ванную, или утереть нос платком. Но я знаю больше и лучше других, я клянусь тебе, что бог одобрил твой обман и даже сумел вознаградить тебя.
Мне говорят также, что раз уж я стою на своем, то должен бы начать с конца, вернуться к твоей потешной беготне на четвереньках, когда тебе было год от роду, вспомнить твой испуг при первой менструации, еще раз коснуться тайны конца, возвратиться к твоим двадцати годам и отъезду, перейти тут же к твоему первому, гибельному и безутешному, аборту.
Но ты и я, Монча, столько раз были едины в своем пренебрежении к скандалу, что я предпочитаю рассказать тебе все с самого начала, которое важно до последнего поклона, до прощания. Ты поблагодаришь меня, посмеешься над моей памятью, не покачаешь головой, услышав то, о чем, может быть, не следовало говорить тебе. Так, будто ты уже готова понять, что слова сильнее поступков.
Нет, для тебя — никогда. Никогда, в сущности, ты не понимала слов, которые, пусть беззвучно, не означали бы деньги, уверенность, нечто такое, что позволило бы тебе удобно расположить толстый зад твоего худого тела в глубоком, мягком кресле недавно овдовевшей женщины.