Испытание огнем - Страница 21
Операция “Мир”
Киносеанс заканчивался. На экране — кульминация. Шепот и шорохи в отсеке разом оборвались. Мужественный парень Вася протянул руки любимой: “Значит, вместе? Навсегда?…” Взор симпатичной девушки Светы затуманился, губы дрогнули, красиво разомкнулись… И тут из лодочного репродуктора грянул знакомый старпомовский бас, густой, как в бочку:
— Боевая тревога!… Боевая тревога!…
Ослепляя, вспыхивает свет. Экран свертывается в тугой рулон и уползает кверху. Какое-то время мы еще сидим; у нас ошеломленные лица. Тревожная дробь звонков подстегивает. Мы вскакиваем с мест и, теснясь, бросаемся к выходам. Отсек быстро пустеет.
Я выскакиваю за дверь первым, даже раньше моряков. Пулей проношусь через пустынный еще и полутемный ракетный отсек, на миг задерживаюсь в реакторном, чтобы пропустить бегущих навстречу подводников, ныряю в круглую с массивной литой крышкой дверь и оказываюсь в центральном посту.
Мое место тут — между командным пунктом штурмана, окруженным несметным множеством приборов, и пультом управления подводной лодкой. Сюда по всем тревогам я обязан, “захватив ноги в руки”, бежать “быстрее лани” — так приказал старший помощник командира Никитин, старпом, как его для краткости все здесь зовут.
Мы, научные сотрудники океанографического института, — Кеша Лысов и я — в первый же день плавания на подводном атомоходе “Пионер” увидали свои фамилии на доске корабельных приказов. Не без удивления читаю:
— “Приказ… Расписание по тревогам… Океанолог Лысов — кают-компания…”
— “Биолог Ведерников — центральный пост…” — продолжает Иннокентий и хмыкает: — Это уж явно по блату.
— Чего-то непонятно. Люди мы штатские, и на тебе — приказы, расписания, — говорю я.
— Все правильно, старик, — смеется Иннокентий. — На боевом корабле ни один индивидуум не должен болтаться без дела. Уж я — то знаю…
И я умолкаю. Иннокентий для меня авторитет во всем, что касается моря вообще и подводных лодок в частности. Во-первых, он океанолог, а во-вторых, дважды плавал (он, конечно, говорит “ходил”) в Атлантику на знаменитой “Северянке”. Ну и еще есть у него эдакое сибиряцкое: отрубит — и баста. И не веришь — поверишь.
Определенных мест и обязанностей в приказе нам не определено, сказано только: “По назначению командира отсека”. Меня мой командир отсека привел в закуток между штурманским столом и пультом, очень серьезно объявил: “Будете находиться тут. Кстати, самое лучшее место в отсеке”, — и ушел. Даже не улыбнулся. Я, конечно, понимаю: место как место, лишь бы никому не мешал. Но обиды нет — из моего закутка весь центральный пост как на ладони.
Сейчас он гудит потревоженным ульем. Из отсеков поступают доклады о готовности боевых постов, ровно стрекочут приборы, мерцают зеленым неземным светом экраны, перемигиваются красные, жёлтые, синие лампочки на пультах.
Это не первая моя тревога за полтора месяца плавания в океане, но я слежу за всем с не меньшим интересом, чем в первый раз. В армии я не служил, на боевых кораблях до этого не бывал, и потому многое здесь вначале мне казалось необычным. Ночь-заполночь, боевая тревога — все несутся стремглав на свои посты. Командир приказывает: “Противник справа тридцать! Это крейсера и авианосец. Изготовиться к ракетному залпу!…”, и так далее. Всем известно: океан гол, как коленка, какие уж там крейсера… Но действуют моряки на полном серьезе, и глаза у них такие, будто крейсера эти и впрямь под боком.
Однажды в носовом отсеке вижу за пультом центрального автомата торпедной стрельбы Володю Острецова, старшину, очень симпатичного мне паренька. Меня он не замечает. Сам себе команды подает, сам на них отвечает, крутит ручки, включает тумблеры. Физиономия у него сосредоточенная, губы сжаты, будто в атаку идет. Подхожу, спрашиваю: “Все тренируешься?” Отвечает: “Операция одна никак быстро не получается, кот ее задери!” — “И не надоело?” — интересуюсь. В Володиных глазах дикое изумление, потом — насмешка, а у меня сразу пропадает охота задавать дурацкие вопросы…
Отгремели колокола громкого боя. Личный состав занял боевые посты.
Справа от меня, перед пультом управления лодкой, стоит Крамцов, инженер-механик “Пионера”. Он худой, длинноногий, с высоким сократовским лбом и ранними залысинами. У пульта, спиной ко мне, склонились операторы. Они перебрасываются короткими служебными фразами вроде: “Внимание, переключаю эжектор… Давление на марке… Вакуум в конденсаторах — норма…”, чуть дальше, откинувшись на кожаную спинку похожего на пилотское кресла, замер рулевой. Руки его, лежащие на контроллерах, неподвижны: подводную лодку по курсу и глубине ведет автомат — гирорулевой.
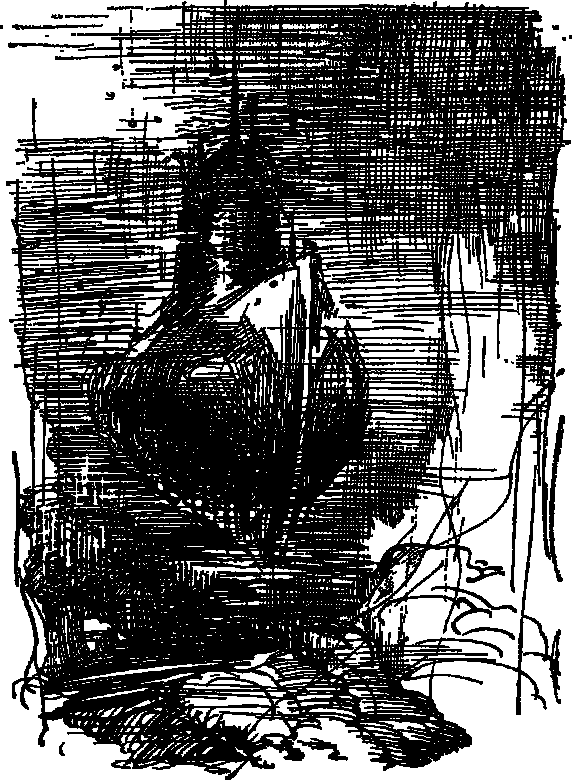
Слева от меня штурманский пост. Коля Андреев, корабельный штурман, что-то подсчитывает на логарифмической линейке. Губы его беззвучно шевелятся. Перед ним карта, и по ней чертит кривые нашего пути прибор, напоминающий черного длинного паучка.
Капитан 2-го ранга Круглов стоит на своем командирском месте посредине отсека. Справа и слева от него голубые экраны лодочных телевизоров, ряды квадратных, круглых, прямоугольных шкал и циферблатов. Изредка он подтягивает к губам микрофон на пружинном подвесе и отдает распоряжение чуть глуховатым, спокойным голосом.
У Ивана Васильевича простое русское лицо: немного вздернутый нос, упрямый подбородок, чуть выпирающие скулы и тонкие губы. Он удивительно выдержан. Я ни разу за время плавания не слышал, чтобы Круглов на кого-нибудь повысил голос, хотя поводы для этого, пожалуй, и были. Просто умеет вовремя сдерживать себя и хорошо воспитан. Круглова выдают глаза: то серые, задумчивые, то отливающие холодной сталью, а то насмешливые, с искорками в глубине зрачков.
Старший помощник Никитин, приняв доклады из отсеков, поворачивается к командиру и чеканит:
— Подводная лодка к бою готова!
Круглов не отвечает: задумчиво смотрит в голубой листок, что держит в руке. Старпом повторяет доклад. Командир поднимает голову, не спеша складывает листок, проглаживает пальцами на сгибах и, немного помедлив, приказывает:
— Отбой боевой тревоги! Готовность номер один… Я пойду к себе, старпом.
Он спускается с платформы и идет из отсека. Его провожает десяток пар настороженных глаз. В них немой вопрос: “Командир взволнован. Что-то случилось. Но что?…”
Рядом со мной сидит штурманский электрик Толя Скворцов. На его курносой физиономии прямо-таки написано пламенное желание поговорить. Он заговорщицки подмигивает мне, косится на своего начальника лейтенанта и тихонько шепчет:
— Заметили, как сегодня старпом тревогу объявлял?
— Нет. А что? — шиплю я в ответ и украдкой поглядываю на Никитина — он не выносит посторонних разговоров в центральном посту.
— А то, что объявил не как обычно “учебно-боевая”, а просто — “боевая тревога”. Может…
— Скажешь тоже, — машу я рукой и смеюсь.
— Разговорчики! — обрывает наш шепот сердитый раскатистый бас Никитина, и в центральном посту надолго воцаряется тишина. Ее нарушает пронзительный телефонный звонок. Старпом снимает трубку, слушает, наморщив лоб гармошкой, отвечает: “Есть!” — и, повесив трубку, подтягивает к губам микрофон. Его голос звучит громко и строго:
— Командир приглашает к себе научных сотрудников института. Повторяю… Командир приглашает…
Дальше я уже не слушаю, тороплюсь из отсека. Толя Скворцов подмигивает мне: дескать, “видишь? А что я говорил?”
— Ерунда! — проходя мимо, шепчу ему. — Фантазируешь…
Наш “интеллектуальный дуэт” (так в шутку нас прозвали моряки) сидит в каюте командира. Иннокентий и я восседаем рядком на диване, Круглов занимает кресло. Командир бледен, очень собран и излишне официален, даже чопорен. Чего-чего, а уж последнего за ним прежде не замечалось.
— Товарищи, мною получена радиограмма штаба, — наконец говорит он и косится на лежащий перед ним голубой листик бумаги. В голосе чувствуется сдерживаемое напряжение. — Весьма срочная радиограмма, — подчеркивает он. — Она существенно меняет план нашего похода…