Интегральное скерцо (сборник) - Страница 1
ИНТЕГРАЛЬНОЕ СКЕРЦО
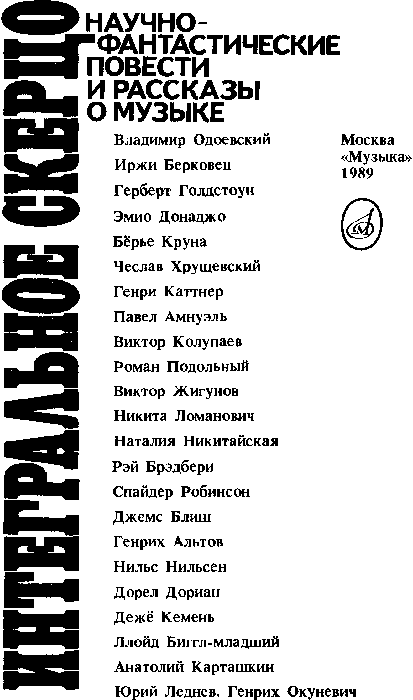
Preludium

Владимир Одоевский
4338-й год
(Отрывок)
…В разных местах сада по временам раздавалась скрытая музыка, которая, однако ж, играла очень тихо, чтобы не мешать разговорам. Охотники садились на резонанс, особо устроенный над невидимым оркестром; меня пригласили сесть туда же, но с непривычки мои нервы так раздражались от этого приятного, но слишком сильного сотрясения, что я, не высидев двух минут, соскочил на землю, чему дамы много смеялись. Вообще на нас с дядюшкой, как на иностранцев, все гости обращали особенное внимание и старались по древнему русскому обычаю показать нам всеми возможными способами свое радушное гостеприимство…
Проходя по дорожке, устланной бархатным ковром, мы остановились у небольшого бассейна, который тихо журчал, выбрасывая брызги ароматной воды; одна из дам, прекрасная собою и прекрасно одетая, с которою я как-то больше сошелся, нежели с другими, подошла к бассейну, и в одно мгновение журчание превратилось в прекрасную тихую музыку: таких странных звуков мне еще никогда не случалось слышать; я приблизился к моей даме и с удивлением увидел, что она играла на клавишах, приделанных к бассейну: эти клавиши были соединены с отверстиями, из которых по временам вода падала на хрустальные колокола и производила чудесную гармонию. Иногда вода выбегала быстрою, порывистою струей, и тогда звуки походили на гул разъяренных волн, приведенный в дикую, но правильную гармонию; иногда струи катились спокойно, и тогда как бы из отдаления прилетали величественные, полные аккорды; иногда струи рассыпались мелкими брызгами по звонкому стеклу, и тогда слышно было тихое, мелодическое журчание. Этот инструмент назывался гидрофоном; он недавно изобретен здесь и еще не вошел в общее употребление. Никогда моя прекрасная дама не казалась мне столь прелестною: электрические фиолетовые искры головного убора огненным дождем сыпались на ее белые, пышные плечи, отражались в быстробегущих струях и мгновенным блеском освещали ее прекрасное, выразительное лицо и роскошные локоны; сквозь радужные полосы ее платья мелькали блестящие струйки и по временам обрисовывали ее прекрасные формы, казавшиеся полупризрачными. Вскоре к звукам гидрофона присоединился ее чистый, выразительный голос и словно утопал в гармонических переливах инструмента. Действие этой музыки, как бы выходившей из недостижимой глубины вод; чудный магический блеск; воздух, напитанный ароматами; наконец, прекрасная женщина, которая, казалось, плавала в этом чудном слиянии звуков, волн и света, — все это привело меня в такое упоение, что красавица кончила, а я долго еще не мог прийти в себя, что она, если не ошибаюсь, заметила.
Почти такое же действие она произвела и на других, но, однако ж, не раздалось ни рукоплесканий, ни комплиментов — это здесь не в обыкновении. Всякий знает степень своего искусства: дурной музыкант не терзает ушей слушателей, а хороший не заставляет себя упрашивать. Впрочем, здесь музыка входит в общее воспитание как необходимая часть его, и она так же обыкновенна, как чтение и письмо; иногда играют чужую музыку, но чаще всего, особенно дамы, подобно моей красавице, импровизируют без всякого вызова, когда почувствуют внутреннее к тому расположение. (…)
…Настанет время, когда книги будут писаться слогом телеграфических депешей; из этого обычая будут исключены разве только таблицы, карты и некоторые тезисы на листочках. Типографии будут употребляться лишь для газет и для визитных карточек; переписка заменится электрическим разговором; проживут еще романы, и то недолго — их заменит театр, учебные книги заменятся публичными лекциями. Новому труженику науки будет предстоять труд немалый: поутру облетать (тогда вместо извозчиков будут аэростаты) с десяток лекций, прочесть до двадцати газет и столько же книжек, написать на лету десяток страниц и по-настоящему поспеть в театр; но главное дело будет: отучить ум от усталости, приучить его переходить мгновенно от одного предмета к другому; изощрить его так, чтобы самая сложная операция была ему с первой минуты легкою; будет приискана математическая формула для того, чтобы в огромной книге нападать именно на ту страницу, которая нужна, и быстро расчислить, сколько затем страниц можно пропустить без изъяна.
Скажете: это мечта! ничего не бывало! за исключением аэростатов — все это воочью совершается: каждый из нас — такой труженик, и облегчительная формула для чтения найдена — спросите у кого угодно. Воля ваша. Non multum sed multa[1] — без этого жизнь невозможна…
Мы с тобой — одной крови
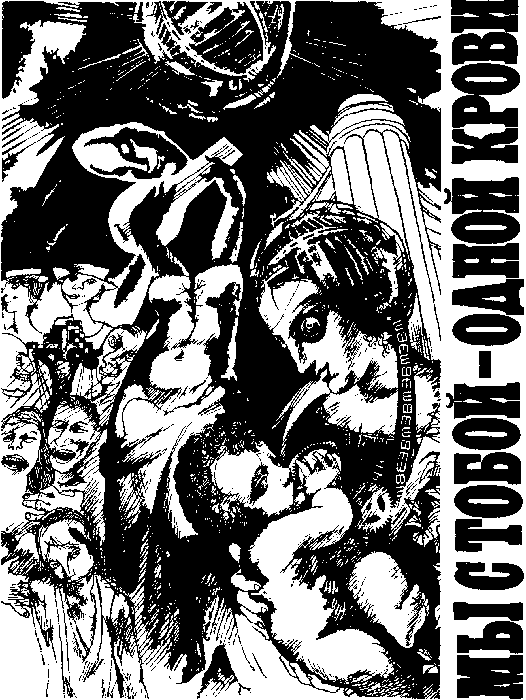
Иржи Берковец
АУТОСОНИДО
Ключ загремел в замке, тяжелые кованые двери со скрипом открылись, и Педро вошел. В узкой сводчатой комнате было почти темно. Луис высек огонь; мерцающий свет озарил голые стены, сверкнул на струнах лютни, висевшей над убогим ложем, и упал на темные корешки книг, аккуратно расставленных в нише. Педро подошел к окну. Из патио доносился сильный пряный запах кампанулы, на угасающем кобальте горизонта заблистали первые звезды.
Тихий аккорд, прозвучавший навстречу спускающейся ночи, задрожал и вылился в новую гармноию: звуки, вначале еле слышные, постепенно усиливались, слетая со струн под волшебной рукой мастера. Только один человек во всей Таррагоне мог так исполнить “Фантазию” Сантильяны — Луис Агиляр.
Педро оглянулся. Лютня висела на стене. В углу, у стола, Луис склонился над небольшой деревянной шкатулкой с круглой рифленной крышкой, из которой торчало диковинное происпособление, заканчивающееся пергаментной воронкой. Крышка медленно вращалась, и из аппарата неслись звуки лютни Агиляра.
Луис с улыбкой посмотрел на пораженного Педро. Затем нажал на какой-то рычажок, диск остановился, и музыка сразу оборвалась. Луис ловко снял диск, положил на его место другой, и тот, щелкнув, пришел в движение.
Педро застыл на месте. Ему казалось, что в мгновение ока комната наполнилась топотом и кашлем толпы. Следом зашумел ошеломляющий поток человеческих голосов. Педро зашатался, с трудом удержав крик ужаса. С широко раскрытыми глазами, почти теряя сознание, он дрожал, весь во власти необычного ощущения.
Лишь спустя несколько минут Педро осознал, что слышит пение, да он уже разбирал слова “Kyrie eleison”.[2] Голоса скрещивались и сливались, то приближаясь, то удаляясь, усиливались и ослабевали. Похоже на хорал в храме Тринидада, мелькнуло в голове Педро, ну, конечно, вот сложный переход басовой партии… да ведь это…
— Мистерия из Элхе, — вздохнул он облегченно.
— Рад, что ты узнал произведение и место, где оно исполнялось, — сказал Луис, когда музыка отзвучала и в комнате стало удивительно тихо.
— Разумеется, это церковь в Элхе, помещение с прекрасной акустикой, где ясно слышны все слова песнопения. Поэтому-то я и решил испытать аппарат именно там. В Элхе я участвовал в хоре на пасхальном богослужении. На репетициях мне удалось спрятать записывающий аппарат под кафедрой.
Только, сейчас Педро пришел в себя.
— Открой же мне наконец, что это за чудесный аппарат, который может вобрать в себя и вновь издать звук лютни и человеческого пения?
— Это мое аутосонидо, — улыбнулся Агиляр, — плод давней мечты, долгих размышлений, попыток и трехлетнего упорного, неустанного труда. Погляди! — Луис развернул на столе чертежи и рисунки. — Вот механизм, который передает звук спиральным углублениям на вращающейся пластинке, покрытой особой древесной смолой… Вначале я крутил их вручную, но, когда дон Эстебан привез мне из Германии “el huevo de Norimberk”,[3] карманные часы магистра Петра Геле, я использовал их скрученную стальную упругую пружинку как источник равномерного движения… видишь, заводится вот здесь этим ключом!