«Если», 1996 № 06 - Страница 5
Мы говорили об «абстрактно взятом» человеке. Поговорим о множествах. Воин южноамериканского народа мбаясов в древности, пробираясь джунглями, знал одиночество? Он нес с собой и в себе задание и доблесть предков, благословение богов, он представительствовал от мбаясов в живом, глядящем на него мире. Он не был одинок в нашем смысле, потому что чем-то целым, отдельным не был. А викинг знал одиночество? Исследователь пишет, что для древнего скандинава другой человек, встреча с ним были событием, праздником. Запертость в себе ощущалась как лишение…
Больше этих, бегло задетых «стадий общественного развития» нас, конечно, занимает российский наш человек. Западный работник и добытчик, со средних веков погрузившийся в «холодные воды чистогана» (как выразился Маркс по поводу буржуазии), послушный небесному велению протестантского варианта — действовать в мире, — организовывал свое общественное бытие, расширял границы жизни. В России низовой человек веками был частью общины и трудовым орудием владетеля. Не риск и инициативное устроение своего бытия, а покорный терпеж (с беспощадными и бессмысленными взрывами)… Вот уж царствовал принцип «Не высовываться!» Соборность — так восхищенно называют это нынешние обожатели российской особости. Трудность отбывания срока жизни, добывания хлеба, предельные температуры существования сплавляли людей в плазму. О развитии индивидуальности и самостояния речь не шла. Когда западный самодеятельный эгоист раздвигал границы, наш мужик еле сводил концы с концами, то есть сужал границы жизни. Жил и творил «всем миром»; творчество было фольклором, безличным, безымянным, и оно полно было желания теплой общности, слезами обделенности и покинутости. Сколько «горьких рябин», сиротинушек, разлук, тоски по родной сторонушке, по матушке, по полюшку! Быть в мире одному — погибель. Общинность учила и научила подозревать всякое индивидуальное начало; даже слово «гордость» произошло от «горба» — от уродства.
По словам современного философа Зиновьева, российский человек, не пройдя эры буржуазного индивидуализма, развитой гражданственности, из патриархальной уравнительной общины попал в тот семидесятилетний строй, который предшествовал нынешним дням. Общинность превратилась в крайний коллективизм, в страстное «причастие» классу, партии, комсомолу. Индивидуализм из неведомого дьявола превратился во вредителя, заброшенного с Запада. У нас «не было» ни секса, ни одиночества, этой принадлежности индивидуалистической культуры, во всяком случае оно пряталось, стыдясь, и оставалось где-то на обочине незаконным попутчиком.
В те годы один веселый интеллектуал переделал строки Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» в «Мы выходим коллективно на дорогу». Дальше у него шло: «…Шумен день. Пустыни нет в помине…»
Наш нынешний день особенно шумен. Утешные идеологические фантомы развеялись, скрепы, сбивавшие в коллективы, ряды, отряды, ослабли и пали, вместе пали и заповеди, запреты коммунистической, да и просто общежитейской морали, которые худо-бедно поддерживали благообразие общественное, да и личное. Одиноким человек остался, без отцовского (по-научному — патерналистского) присмотра властей.
Рассказывают, что некие островитяне, познакомившись с цивилизацией, прежде всего переняли у нее яркие галстуки, которые носили, оставаясь голыми. Размалеванные продукты западного массового потребления, всяческой «попсы», материальной и духовной, принимаются и укореняются у нас, слишком долго остававшихся в изоляции, в отторженности от общей жизни мира. Принимается худшее, а не настоянная столетиями общественная правовая культура, культура ведения дел.
«У нас так: либо винтики, либо — развинченность» — горькая реплика человека с улицы социологу с микрофоном. Иллюстрация к выборочности освоения «жестко-деловой» этики Запада: девятилетний мальчик, пропустивший задание, просит соседа по парте: «Покажи, что задано!» — «Это твоя проблема», — по-родительски, как, видимо, говаривал папа, отбрил малыш. Вот такая амплитуда у нас: от «один за всех, все за одного» — до «твоей проблемы», и как быстро, в несколько лет!
Человек бежит, простуженный насквозь ледяным ветром «первоначального» капитализма, бежит от себя, бедного, от заброшенности своей в тепло каких-то ячеек, сообществ. Как притягивают молодежь всякие тусовки, как горделиво бритые юнцы выступают со своими эмблемами! А праздники единения на стадионе, на митинге, когда не очень уж и важно, за что, против чего, просто хорошо, уютно принадлежать чьему-то фанатству ли, идее ли, армии ли любителей пива…
В глубоком общении близких по духу одиноких видел смысл спасения и возможность лучшей жизни философ послевоенной Германии Ясперс. Может быть, похожее мечтание о подымающемся от самой земли живом духе общности диктует Солженицыну идею земства?
Ищет потерянный человек, как превратить свое одиночество в «энергетику», поворачивающую все и всех к свету и благу. И ведь находит! Сердечное интеллектуальное товарищество ошибочно относят к чудачествам 60-х. Оно живо, живет в разных формах. Искания наших думающих всегда отличались крайностями, размахом. И одиночество наше крайнее, на нем блики чуть ли не космические, не апокалиптические. Ищем общности, товарищества тоже в космических далях.
Ох, как хотел побыть и поразговаривать еще с нашими молодыми интеллектуалами питомец Гарварда: «Я нигде такое не разговаривал! Целая ночь! Хочу еще с вами!» Да ведь и пророк одиночества Бродский знал магнитную тягу нашенской дружбы. Эта дружба горбилась над его гробом. Энергия одиночества нашего и энергия выброса из него не подсчитана. А может быть, не будем сожалеть, что не ведаем комфортного прохладного одиночества западной жизни? Может быть, останемся при своем неустройстве, внешнем и внутреннем, при тех же глубинных импульсах — жажде принадлежать чему-то большему, чем сами? Может быть, на большой нашей тяге к общности, соединению, разогреемся до какого-то замечательного синтеза?
Философ сказал: «Всякая подлинная жизнь есть встреча» — длящаяся встреча, единение. Философ этот, Бубер, принимал за единицу человеческую не одного, а разом «я» и «ты», то есть абсолютное антиодиночество. Вероятно, оно вдвоем с одиночеством и составляет жизнь.

Странно в тумане блуждать.
Уединен в нем каждый пенек.
Кустам друг друга не увидать.
Каждый совсем одинок.
Полон друзей казался мне мир,
Пока наполнял его свет.
Но вот туман все затопил —
И никого нет.
Проходит истина мимо
Того, кто во мглу не глядит.
Она тихо, неотвратимо
Тебя от всех отделит.
Странно в тумане блуждать.
Отделенность — жизни итог.
Никому никого не узнать.
Каждый совсем одинок.
Брюс Стерлинг, Джон Кэссел
ПУЛЯ, НАЧИНЕННАЯ ГУМАНИЗМОМ
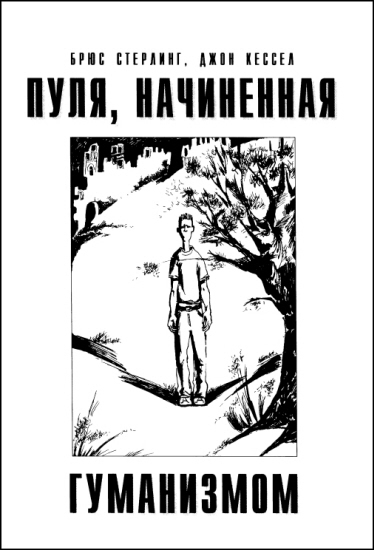
Сниффи привиделась хрустальная вазочка с шариками восхитительного, чуть подтаявшего, бананового мороженого, посыпанного молотым арахисом. Но чудесный сон был грубо нарушен. Над самой крышей истошно ревел турбинами громадный вертолет. Толком еще не проснувшись, Сниффи скатился с кровати на пол, заполз под ржавую панцирную сетку и замер среди пыли и мусора. За ним охотятся! В груди гулко стучало сердце. Немного погодя, Сниффи почти овладел собой. Ведь он ребенок, так? А кому нужен ребенок?
Свист и рокот вертолета мало-помалу затихли вдали. Сниффи вылез из-под кровати и, чуть-чуть раздвинув светомаскировку, осторожно выглянул в окно. В безоблачно-голубом утреннем небе не было ни пятнышка.