Дурная кровь - Страница 2
Быть может, читатель не найдет в «родословной» потомков хаджи Трифуна той ясности, которая проявляется в «Форсайтах» Голсуорси или «Глембаевых» Крлежи. Все же предки эфенди Миты, три или четыре поколения православных купцов, превратившихся в землевладельцев, представлены весьма красочно. После прихода сербов во Вране эфенди Мита теряет свои поместья и скрывается в Турции. Он — левантинец и по всем своим навыкам, и по мировоззрению, сложившемуся в Константинополе. То, что стяжательством, твердостью характера, хитростью и преступлениями приобрели его предки, предприимчивые купцы, эфенди Мита беспечно растрачивает, передав все дела плуту управляющему. Его «господство» состоит в абсолютной праздности, высокомерии, самолюбовании, безграничном эгоизме и восточном франтовстве. Все великолепие эфенди исчезает вместе с его богатством. Тогда он решается «снизойти» до крестьянина Марко, разбогатевшего не то торговлей скотом, не то контрабандой и грабежом, и выдать за его малолетнего сына свою взрослую дочь. За это он требует от него выкуп, что соответствует скорее магометанским нравам (калым). Образ эфенди Миты дан без всякого комментария. Автор не высказывает ни сочувствия, ни порицания, предоставляя судить о его моральных качествах читателям.
Психологический портрет главной героини Софки более сложен. Некоторыми чертами характера она напоминает отца, однако ей свойственны и нежность, и самопожертвование, и чувство прекрасного. Станкович не выдумывал переживания своей героини, чтобы поразить воображение читателя, — он лишь верными и резкими мазками живописал страсти, свойственные среде, которая реально существовала во Вране. Женщины, воспитанные в полугаремном быту, в праздности и довольстве, лишенные интеллектуальных интересов, легко становились жертвами преувеличенной чувственности, в которой проявлялась вся их нерастраченная жизненная энергия. Станкович обнажил, сознательно нарушая патриархальные устои, то, что в ханжеской среде его родного города принято было скрывать. Протест Софки против неравного брака и стоическая жертва, которую она приносит отцу и семье, обнаруживают в ней незаурядную личность. Но над ней висит трагический рок, который сильнее чувств и порывов молодости. Страстные устремления героев Станковича остаются неудовлетворенными, разбиваются о препятствия, зачастую ведут к унижению или гибели. Такова участь не только Софки, но также Коштаны, Ташаны, почти всех персонажей писателя.
Сцена свадьбы Софки — одна из самых сильных страниц в сербской прозе. Героине романа кажется, что она попала в плен к разбойникам, о которых поют эпические песни. Свадебное пиршество, переходящее во «фракийскую вакханалию», настолько своеобразно представлено, что сравнения с натурализмом или иными литературными школами и направлениями тут же пресекаются. Полудикое окружение Марко, где эпические кони понимают каждое слово хозяина и вот-вот сами заговорят человечьим голосом, где снохачество и кровосмешение — остатки каких-то древнейших обычаев, быть может, ровесников группового брака, — дано во всем бешеном проявлении стихийных сил.
Марко все же не решается, по примеру предков, овладеть невесткой. Терзаемый неудовлетворенной страстью, он мчится на коне в горы, где его ждет албанская пуля. Заплачка женщин, скорбный вой всего клана, потерявшего вождя, снова переносит читателя в эпическое прошлое.
Роковые события в последней части романа Станкович объясняет наследственностью: в Томче, муже Софки, обнаруживаются все пороки и необузданные страсти его отца. Античная тема «дурной крови» проявляется также в самом конце повествования (вырождение детей Софки). Всего на двух заключительных страницах обрисована стареющая и глубоко несчастная Софка. В этих страницах весь Станкович — певец трагической участи женщины и всего прекрасного в мире.
Роман вызывает страстное чувство протеста против общества, где все человеческое находится под запретом, где жизнь вколачивается в жесткие рамки отживших канонов, прадедовских обычаев и предрассудков, где предметом купли-продажи становится человек, его красота, молодость, достоинство. В трагедии Софки Станкович увидел отражение глубочайших социальных сдвигов: крушение и самовырождение патриархального мира, стык двух эпох, одна из которых уже изжила себя, а другая еще только-только заявляет о себе.
Проза Станковича, его стиль, то плавно текущий, то неровный и прерывистый, открыли новую эру в сербской литературе. Он развил и углубил психологическую ткань повествования, освободившись от примитивных и часто наивных приемов сербского реализма конца XIX века. Тем самым он приблизил сербскую прозу к достижениям русской, французской и английской реалистической литературы.
Мы не ошибемся, утверждая стилистическую связь Станковича с Гоголем. Следует, например, сравнить ритмическую прозу монолога Митки, одного из героев «Коштаны», о безвозвратно утерянной молодости с ритмикой Гоголя в «Вие» (полет Фомы Брута). Широта раскрывшихся горизонтов, экстатический «полет» в овеянные музыкой пространства родственны у обоих славянских писателей.
Жизнь и творчество Станковича еще ждет своего историка. Более подробный стилистический анализ произведений Станковича покажет, как мы полагаем, его близость к русскому реализму и в то же время еще ярче подчеркнет его оригинальность как творца неизвестного нам ранее мира, выраженного в соответствующей содержанию новой форме.
И. Голенищев-Кутузов
ДУРНАЯ КРОВЬ
Перевод М. ВОЛКОНСКОГО
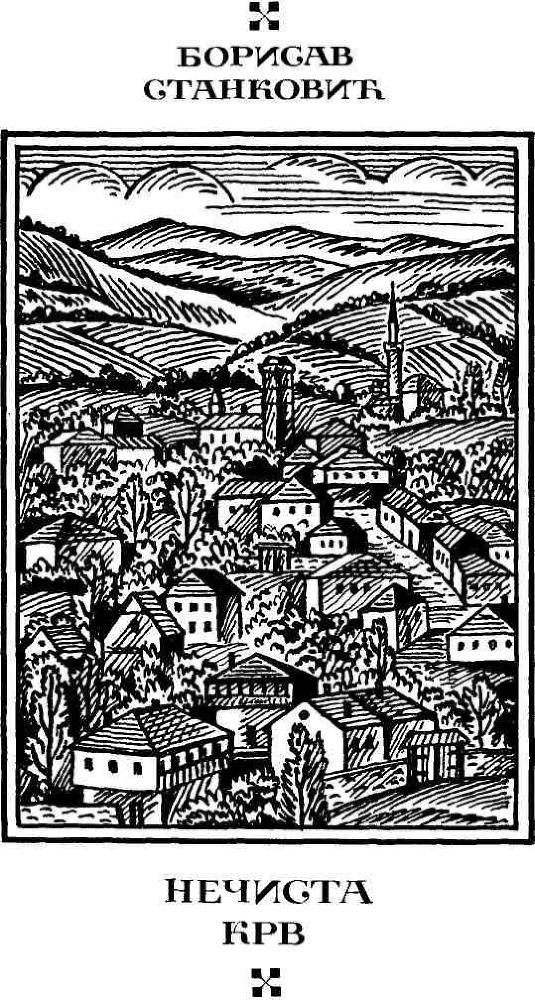
I
О прапрадедах и прадедах Софки люди знали и говорили больше, чем об ее отце, матери и даже о ней самой.
Это был старинный дом. Похоже, он уже стоял тут, когда город только начинал свое существование. Весь их род вышел из этого дома. Спокон веков по большим праздникам, после обедни, епископы сперва приходили с поздравлениями к ним, а уж потом шли в другие, столь же известные и старые дома. В церкви семья имела свое место, а на кладбище — свое кладбище. На всех могилах лежали мраморные плиты и всегда, и днем и ночью, горели лампады.
Неизвестно, кто из предков построил самый дом, хотя известно, что все они издавна славились богатством. И только о прадеде Софки, хаджи Трифуне, с которого их и начали звать хаджиями, было известно, что он первый осмелился, вернувшись из паломничества, все богатства, укрытые до тех пор в подвалах, амбарах и конюшнях, вытащить на свет божий, разместить и разложить так, чтобы «люди видели». Он построил массивные крытые ворота, как в крепости. Второй этаж поднял, побелил и украсил резьбой. Комнаты щедро убрал дорогими коврами и старинными ценными картинами духовного содержания из Печа, Святой Горы и Рилы; по полкам расставил серебряные тарелки и золотые зарфы. Внизу, у ворот, установил мраморную тумбу, с которой садился на своих знаменитых коней. Как рассказывают, и летом и зимой он ходил в кафтане на меху, с широким поясом, пистолетами и ятаганами, в тяжелых крепких сапогах до колен. С той поры турок-жандарм не смел пройти мимо дома, а уж тем более остановиться перед ним. У ворот всю ночь горел фонарь и дремали три-четыре ночных сторожа. Хаджи Трифун вел торговые дела в больших городах, водился с очень видными людьми и благодаря своим знакомствам, а главное, своему богатству мог смещать и отправлять в изгнание не только жандармов или каймакамов, но даже и пашей. Всем было известно, что по любому общественному делу — будь то новая школа, церковь или монастырь, который требовалось построить, подновить, или по более сложным и рискованным затеям, как, например, смещение какого-нибудь палача или тирана, — надо обращаться к нему. И тогда в богато убранной комнате второго этажа собирались первые люди города, ночь напролет они уговаривались и договаривались, а в конце концов всегда предоставляли хаджи Трифуну поступить так, как он найдет нужным. И Трифун быстро улаживал дело. Чаще всего взятками, а если это не помогало — пулей, причем непременно пулей иноверца, какого-нибудь беглого албанца. Вот почему их семейная золотая лампада горела неугасимо перед распятием в церкви и почему они откупили место рядом с епископским, куда, кроме них, никто не имел доступа. На пасху, рождество и славу они три дня кормили и поили бедняков и арестантов.