Дивизионка - Страница 13
Уверен, что ты, Галочка, идешь правильной дорогой в беспокойной нашей и светлой жизни, как и полагается дочери героя.
Ну, а мама твоя?
Ей, наверное, было нелегко воспитать тебя. Какою мерой измерить незаметный, но великий подвиг тысяч и тысяч матерей, взрастивших для Родины новое поколение юношей и девушек — строителей коммунизма, матерей, которые лишены были крепкой опоры: ведь не было рядом с ними кормильца, отца их малых детей?!
Да будет во веки веков благословен этот подвиг!
Есть у меня к вам, Валя и Галя, просьба.
Коль вам попадутся на глаза эти строки, — отзовитесь. Напишу вам подробнее, — отзовитесь! Живите счастливо, хорошие люди!
Олесь
Весной 1944 года дивизия продвинулась в глубь Румынии и остановилась перед цепью вражеских дотов. На этом рубеже мы находились несколько месяцев, вплоть до 20 августа, когда войска 2-го Украинского фронта вновь повели широкое наступление.
Было начало апреля. Отцвели вишни и черешни. Земля покрылась зеленью. К брустверам солдатских окопов побежали цветы — белые, оранжевые, голубые, синие, пунцовые, желтые. Бражным духом напитался воздух, пьянил, будоражил, наполнял душу сладкой и тревожно-светлой грустью, будил неясные желания, звал куда-то.
Олесь сидел возле миномета, обняв черную его трубу правой рукой, и, прищурив черные, монгольские глаза, тихий и задумчивый, чуть внятно шептал:
Минометчики, необычно строгие и даже торжественные, слушали его, затаив дыхание. Прямо перед ними, в каких-нибудь трехстах шагах, высились темные горбы неприятельских дотов, начиненных пулеметами и легкими противотанковыми пушками. Между дотами и минометчиками лежал свеже-зеленый луг, разукрашенный цветами и звеневший от птичьего разноголосья. Но солдаты как бы и не замечали всей этой благодати. Перед ними были только доты, грозившие ежеминутно смертью, и ничего больше.
Олесь, между тем, читал уже другое, гневное:

Смуглое лицо его теперь было матово-бледным, на острых скулах тугими узлами вспухали, шевелились желваки, в черных глазах поблескивали алмазной жесткости огоньки.
Солдаты слушали все беспокойнее. Один за другим лезли в карман за кисетом, несмело просили:
— Давай, Лександр, еще…
— Вот ведь штука-то какая… За самое аж сердце…
— Ну, валяй дальше, Олесь…
Олесь читал. Он читал и час, и другой. А солдаты слушали и удивлялись, как это можно было обыкновенными словами выразить то, что было у каждого на сердце и о чем, стало быть, могло поведать одно лишь человеческое сердце…
О том, что в бывшей моей минометной роте объявился настоящий поэт, я узнал от ездового Максимыча, который с некоторых пор использовал любой подходящий случай, чтобы проведать нас.
— Прислали его к нам, — повествовал Максимыч. — Смирный такой — все больше молчит, будто грустит по ком-то… Глаза такие печальные-печальные. По вечерам в блокнот записывает. Потом зачал читать нам эти самые… как их… ну, стихи, какие вы, товарищ капитан, нам в книжке Тараса Шевченкова читали… Ребята быстро полюбили его — с умом парень и душевный такой. Олесем зовут, Лександр — по-нашему, по-русскому. Вот какое дело!..
Юра Кузес, сидевший поблизости и слушавший рассказ Максимыча с разинутым от удивления ртом, немедленно отправился в минометную роту, а часа через три вернулся, да не один, а привел с собой и поэта. Это был в самом деле тихий, красивый парень, с глухим, как бы придавленным чем-то тяжелым, голосом, медлительный, пожалуй, даже флегматичный. В темных умных глазах — невысказанная боль, отражение тревожных и тягостных раздумий: позже мы узнали, что парню этому довелось хлебнуть столько горя, что еще не скоро погаснет в глазах это его отражение…
Олесь читал стихи, написанные по-украински. У нас не было переводчика, да нам и не хотелось переводить их на русский — до того задушевны и понятны были они в подлиннике. Но мы не знали, что с ними делать. Наша типография не располагала украинскими шрифтами.
И все-таки выход был найден. Помогла солдатская сметка.
— А что, ежели перевернуть вверх ногами восклицательный знак? — вдруг предложил сержант Макогон.
— Ур-р-ра, Макогонище! — заорал Дубицкий. — Ты гений!
И тут все вдруг вспомнили, что не хватает в сущности одной только буквы «i» и что стоит перевернуть восклицательный знак, как эта проблема будет расчудеснейшим образом решена: мы получим самую что ни на есть настоящую «i». Наутро газета вышла со стихами Олеся. Вот как это выглядело:
До самого конца войны почти в каждом номере дивизионки печатались стихи Олеся Гончара. Потом он демобилизовался, уехал на родину. Более года мы ничего не слыхали о своем дивизионном соловейке, все ждали, что его имя промелькнет в ряду имен лучших украинских поэтов. Но мы ошиблись. Олесь перестал писать стихи. Вскоре к нам в дивизию прислали книгу. Называлась она «Альпы». И эта книга была про нас, про наш путь. Растроганный полковник Денисов написал ее автору письмо, которое заканчивалось словами:
«Узнаю почерк славного гвардейца. Олесь, родной, дуй, брат, до горы.»
Гусь-диверсант
У наборщика Миши Михайлова была одна слабость: Миша очень любил гусей. Откуда пришла к нему эта странная любовь, никто не знал. От самого Михайлова выяснить что-либо не удалось.
— Гусь — умнейшая птица! — убеждал он Макогона. — Слыхал, может, как гуси спасли Рим? То-то… Гусь, он все может. Вот раздобудь мне где-нибудь — я из него наборщика сделаю. Не веришь?
— Жаркое сделаешь, — ухмылялся Макогон.
— Ты обо всем с позиции своего брюха рассуждаешь, — обиделся Миша. — Материалист!
— Ну, ладно, ладно. Так и быть: достану я тебе гусака.
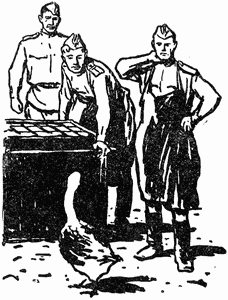
Вскоре и вправду в нашем хозяйстве объявился молодой гусак, Не знаю уж, на законном ли основании он объявился или захвачен был «в плен» где-нибудь за селом, но только быстро прижился в редакции и теперь расхаживал возле реалов с наборными кассами, важный и деловитый. Он и впрямь внимательно наблюдал за работой Михайлова и Макогона, вытягивая длинную свою шею, стараясь достать до ячейки и вытащить из нее буковку. И когда ему не удавалось, страшно сердился, шипел по-змеиному и издавал угрожающие клики.
Мало-помалу Миша стал приобщать пернатого подмастерья к своему ремеслу.
Началось все хорошо. Гусь оказался учеником прилежным и понятливым. Он уже продвинулся так далеко, что мог по едва уловимому знаку Михайлова достать своим клювом нужную литеру.
Все это сопровождалось восторженным хохотом тружеников нашего наборного цеха.
— Ну и гусь! Он, ребяты, вас скоро за пояс заткнет! — кричал Лавра, обливаясь радостными слезами.
Миша Михайлов ликовал, точно малое, неразумное дитя.
— Что я тебе говорил? — то и дело вопрошал он, победоносно глядя на посрамленного Макогона. — Вот увидишь, я из него такого метранпажа сделаю, что ты будешь не нужен!