Дельфиний мыс - Страница 1
Анатолий Иванович Мошковский
Дельфиний мыс

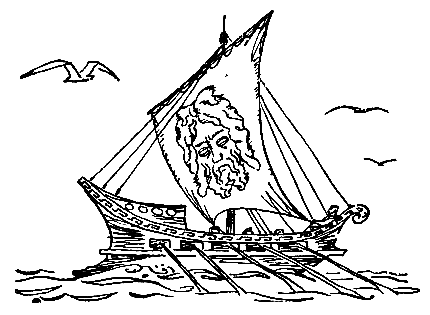
ВСТУПЛЕНИЕ
Дул попутный ветер, и Зевс, косматый и грозный, смотрел с тугого паруса вдаль.
Там кувыркались дельфины, сверкало солнце, а здесь ритмично взлетали длинные весла и из трюма доносилось слабое постукивание: в несколько рядов стояли в деревянных ячеях большие глиняные сосуды с вином — острый, дурманящий запах его щекотал ноздри кормчего, управлявшего судном.
Понт Эвксинский искрился и полыхал синевой.
Кормчий задумался. Он вспомнил слепящие белым камнем Афины, откуда еще мальчиком был увезен родителями сюда, в Скифию, потому что у отца отобрали за долги крошечную гончарную мастерскую. Здесь он окреп, возмужал, а год назад нанялся к хозяину судна кормчим: возил грузы. Что ни день — то качка, от которой поташнивает, брызги в лицо, скрип весел и острая резь в глазах — вечно напрягаешь их, глядя вперед, чтобы не налететь на риф, не сесть на мель, — и вечно от зноя сухо в глотке…
Скорей бы прибыть в Херсонес и спуститься в подвальчик, где много холодного вина и острой еды, усесться на деревянную лавку и забыть обо всем…
Кормчий смотрел вперед, оглохнув от солнца и воспоминаний, смотрел в смутную синеву — и ничего не видел.
И не слышал.
Не слышал голосов тех, кто сидел за веслами. А они о чем-то кричали. И очень громко и возбужденно.
Он трогал свою жесткую бородку и мечтательно улыбался.
И вдруг — удар!
Море вокруг клокотало, мачта накренилась. Огромное лицо Зевса с вытаращенными глазами перекосилось. В нем был гнев и ужас. Удар! Еще удар! Гигантский острый мыс, врезавшийся в море, был далеко, но из воды вокруг судна вдруг выскочили скалы. Море возле них взрывалось, крутилось, пенилось. Судно накренилось. Загремели, выскакивая из ячей, глиняные сосуды. Гребцы стали прыгать в воду. Мачта переломилась, и лицо Зевса сморщилось, исказилось от боли.
— Какой неверный, какой скалистый берег! — крикнул кормчий, хватаясь за обломок мачты…
Судно так и не прибыло со своим грузом в бухту назначения. Но гибель его не прошла бесследно. Не прошла хотя бы уж потому, что через две тысячи лет она перевернула вверх дном жизнь одного московского мальчишки, да и не только его…
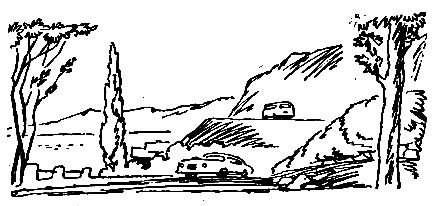
Глава 1
СКАЛИСТЫЙ
Оля смотрела в окно и хмурила тоненькие бесцветные бровки, а Одика так и распирало от улыбки, и он героически боролся с собой. Улыбаться сейчас было нельзя, потому что мама с отцом заспорили. Охота же! Делать им больше нечего. Мама провела пальцем по зеркалу, занимавшему всю дверь в купе, и зеркало, как молния, рассек зигзаг чистой дорожки. Она передернула плечом:
— Даже вагона не убрали как следует. А что будет днем? Духотища, жара…
Ну точно помешалась на чистоте! И дома от мамы нет спасения: охотится за каждой пылинкой и не успокоится, пока не поймает ее сырой тряпкой или пылесосом.
— Переживем, — буркнул из-под потолка отец, и очень правильно буркнул: такое дело… Он стоял на шаткой стремянке, сердитый, грузный, и самостоятельно застилал верхнюю полку.
— Но мы б уже были там… Там, понимаешь… Два часа — и никаких постелей и гари! В море б уже купались…
— А путь от аэропорта? И ты забываешь: детям надо брать на самолет взрослые билеты, не посадишь же Одика на коленки.
Одик прыснул.
— Пузырь! — Оля возмущенно убрала со столика худые локотки и стала вытираться платочком.
— А ты заморыш! — выпалил Одик. — Вяленая треска, щепка… А ну позвякай костями!..
Мама тут же вонзила в него осуждающий взгляд.
Одик прикусил язык. И не потому, что струсил — в семье он никого не боялся, — не хотел связываться с сестрой: еще рассыплется от его шуток на свои составные части и до моря они не доедут. А это совсем не входило в его планы. Дома мама то и дело твердит ему: отстань от нее, ты старший, ты здоровый и к тому же она девочка… Ну и что? Значит, потому что он парень, и не такой тощий, и кончил уже пятый класс, он должен вечно помалкивать? А может, он еще и виноват, что она не такая добрая и упитанная, как он, что у нее оказались слабоватые легкие и врачи прописали ей сухой, йодисто-смолистый воздух юга?
Нет уж! Худущие — они все злые. Все, как один.
— Билеты! — возразила мама. — Разве дело в билетах? Да мы бы на самолете целых три дня сэкономили — туда и обратно, я ведь так устала, и на питание бы не тратили, а ты…
— Валя! — обрезал отец, в сердцах оборвал на наволочке пуговицу, качнулся, стремянка рухнула, и он, удерживаясь на руках за верхние полки, запыхтел, беспомощно заболтал ногами. — Прошу тебя, не говори «сэкономили»! Что ты в этом понимаешь? Это моя монополия!
Одик заулыбался: уморили! И уткнулся в стекло с грязными разводами. Отец запрещал маме говорить «сэкономили» потому, что работал экономистом в Министерстве легкой промышленности и не хуже новейшей электронно-вычислительной машины мгновенно производил в уме сложнейшие подсчеты всех их расходов и приходов. Но, по словам мамы, экономистом он был никудышным, потому что их семейный бюджет вечно трещал и лопался по швам и перед получкой ей всегда приходилось как-то выкручиваться.
Ноги прыгали в воздухе до тех пор, пока мама не подвела под них стремянку.
— Воображаю, как мы будем сегодня спать! — сказала она.
— Зато у нас полная гарантия, что мы и наши драгоценные дети увидим море…
— Ах ты вот о чем, вот о чем! А я и не догадывалась, — угрюмо сказала мама.
«О чем это они?» — подумал Одик.
Кое-как покончив с постелью, отец, кряхтя и вздыхая, улегся и мгновенно заснул: тихо и удовлетворенно засопел. С него этот спор как с гуся вода — молодец! Только край плохо заправленной простыни выбился из-под матраца и лениво раскачивался в такт ходу поезда.
— Узнаю родной дом! — Мама показала глазами на простыню и развела в бессилии руками.
Этот жест был так знаком Одику. Мама и отец — они были такие разные. Он — беспечный, рассеянный, весь какой-то расслабленно-благодушный, а мама — всегда собранная. И ни капельки благодушия. Она вечно ходила за отцом по комнате и прибирала: ставила на свое место стаканы и туфли, половой щеткой выкатывала из-под кровати яблочные огрызки, рвала на клочки оставленные на тумбочке листы бумаги со столбиками цифр после длительной игры его с гостями в преферанс, вешала на спинку стула комом брошенный на кушетку пиджак, ползала по паркету и наскипидаренной суконкой стирала кривые черные полосы, оставленные отцовскими туфлями, — не может ходить, как все люди! Иногда мама до глубокой ночи наводила в комнате порядок подметала, скребла, чистила, утверждая, что туда, где побывал отец, надо немедленно посылать экскаватор, пока еще можно что-то расчистить…
И говоря все это, мама вот так же разводила руками.
Отец жил, как хотел, и мамино стремление к аптечной чистоте и порядку иногда бесило его. И правильно. Жаль вот, от этой его беспечности частенько приходилось страдать Одику. Он смотрел на край качающейся простыни и вспоминал, как однажды чуть не получил из-за отца двойку по арифметике: отец с вечера по рассеянности сунул в свой портфель его тетрадку с задачником и унес в министерство; в другой раз отец потерял ключ от двери, мама ушла к школьной подруге, и Одику пришлось как кошке лезть в форточку, и он сильно поцарапал щеку. И еще маловато зарабатывал отец: ни копейки сверх зарплаты.
Второй год ждал от него Одик велосипеда и новых клееных эстонских лыж с полужесткими креплениями. Отец редко давал ему больше гривенника, даже после самых слезных просьб. А у других ребят было все — и велосипед, и легкие гибкие лыжи, и даже часики на руке, — эти ребята в точности знали, когда кончится какой урок и надо ли трястись, что тебя вот-вот вызовут, или можно спокойно откинуться на спинку парты и поплевывать в потолок… Чего-то все-таки не было в отце, чего-то не хватало ему, и, случалось, Одик целиком держал сторону мамы, хотя и она была не слишком щедра…