Что сердцу дорого - Страница 6
— Литейное тебе нравится, — хмуро повторил мастер. — Ты бы вот в мартеновском побывал… Не приходилось?
— Нет.
— Плавка, — презрительно сказал мастер. — Полтораста килограммов металла плавкой называем. А в мартеновском, бывало, как откроешь летку, как пойдет она, сталь-то, так зарево по всему цеху и разольется. А цех не с эту коробочку. Плывет это ковш под потолком, а крановщица тихонько позванивает — сторонись, берегись, не шути с огнем!
— А что ж вы из мартеновского ушли, Петр Антонович? — неосторожно спросил Вадим.
Мастер долго молчал, Вадиму уже казалось, что он не ответит. Но Нилов вдруг тихо сказал:
— Учиться мне, парень, не довелось. До мастера самоучкой дошел. Пока инженеров нехватка была, вроде на месте считался, а тут прислали с дипломом, а меня, значит, в помощники к нему. Не захотел, погорячился, вот и ушел. — И тут же, видимо, желая переменить разговор, он обратился к Зуеву: — И чего ты, Михаил Степанович, все к печке жмешься, ровно к жене? Сел бы подальше.
— И тут хорошо! Даже приятно подогревает. Вроде где-нибудь на Кавказе солнышко тебя печет.
— Последнее сало растопится, — лениво пошутил всегда мрачный и безмолвный Карасик.
— Это тебе страшно — растаешь когда-нибудь, как свечка на горячей плите. А у меня сала нет. — Зуев вытер свое худое, с немного запавшими щеками и острым носом лицо и без всякой связи с предыдущим сказал: — В воскресенье пойду костюм покупать. Весь город, видать, придется обегать: трудно на мою фигуру подобрать.
Зуев очень любит покупать вещи. Это — его страсть. Он жалеет деньги на еду и неизменно приносит с собой на обед краюху черного хлеба и бутылку молока. Дни получки для Зуева — самые значительные в жизни.
— Это уже четвертый у меня будет. Синий есть, коричневых два, а теперь черный думаю поискать.
— Да куда тебе столько? — удивился Карасик. — Ты ведь и не надеваешь их никогда, все в старье ходишь.
— Пускай, место не пролежат. В праздник когда и надену.
— Жадный ты, Михаил, — говорит Андрей. — Не люблю жадных.
Тон у Андрея вызывающий, так недалеко и до ссоры, Петр Антонович спешит переменить разговор.
— Радио сегодня слушал кто? Я проспал немного.
— Я слушал, — отозвался Вадим. — Опять бельгийцы в Конго лезут.
— Сволочи! — тотчас вмешивается Андрей. — В Конго и в Лаосе сразу кашу заварили, на Кубу зарятся.
Зуев тушит о пол крохотный окурок.
— Заваруха крепкая идет. Гибнет народу немало.
— Ничего они не добьются, — горячо продолжает Андрей. — Не выйдет!
— Не наше это дело, заморские дела решать, — надумал высказаться Карасик. — Нас не спросят, что да как.
На красивом смуглом лице Андрея возмущенно блестят глаза.
— Карасик ты и есть, самая у тебя душа карасячья.
Зуев обрывает спор:
— Плавку пора разливать.
Передышка кончилась. Все вернулись к печи.
Перед разливкой на участок забежал Минаев, сам проверил температуру металла, посмотрел, как Зуев вводит присадки.
— Скоро министр приедет, — оживленно сообщил он. — Будет решать вопрос о строительстве нового цеха точного литья.
— Давно уж он едет, министр-то, а мы все тут как в печке, — проворчал Зуев.
Разливку кончили за полчаса до конца смены, но новой плавки не начинали — не успеешь ни расплавить, ни разлить металл.
Вадим, прежде чем отправиться в душ, идет к Соне — он всегда навещает ее, если раньше кончает смену. Не то чтобы весь день он думал о Соне — не до того за делом, но приятно иной раз вспомнить, что она здесь, близко, в нескольких десятках метров от него. «Наш цех», — говорят они с Соней, если случается в разговоре вспомнить о работе, и в этом «наш» звучит для Вадима что-то роднящее, объединяющее их.
Соня работает на формовке, в самом темном и грязном углу цеха. Вместе с немолодой поблекшей женщиной она просеивает ручным ситом песок, и облачко серой пыли поднимается над ними. Вадим некоторое время стоит в стороне, чтобы не мешать. Но вот они кончили просеивать песок, и Устинья Петровна отошла куда-то, а Соня занялась формовкой. Теперь Вадим стоит рядом с Соней.
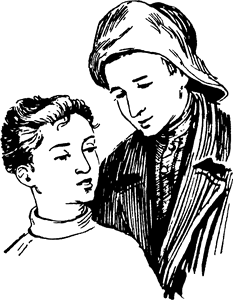
Я приду вечером, ладно? — говорит он.
— Приходи.
Она взяла керамический агрегат, завязанный у горловины пергаментной бумагой, чтобы туда не попал песок, вставила его в опоку и засыпала пустое пространство. Ее маленькие проворные руки, спокойное лицо с опущенными темными ресницами и вся она — с чуть склоненной набок головой в пестрой косынке, в своем темном платье и в фартуке — так дорога Вадиму, и так хочется сделать для нее что-то хорошее, доставить какую-нибудь радость…
— Хочешь, пойдем в кино? Или в театр?
Соня долгим взглядом смотрит на Вадима.
— Там решим. Может, просто погуляем.
Вернулась Устинья Петровна — принесла керамические формы.
— Мне пора, — сказал Вадим.
Обе посмотрели ему вслед. Вадим, неуклюжий в своих широких штанах и валенках, шел, чуть заметно сутулясь и как-то неловко размахивая руками.
— Жених, что ли? — спросила Устинья Петровна.
— Да ну! — смутилась Соня и сказала не то, что думала: — От нечего делать ходит.
— От нечего делать не стал бы он на тебя такими глазами смотреть.
— Какими еще глазами? — громче, чем обычно, рассмеялась Соня.
— Он парень серьезный, ты держись за него, — посоветовала Устинья Петровна.
— Вот еще! — фыркнула Соня. Ей не хотелось продолжать этот разговор.
— Правду говорю. Меня вот в молодости так же полюбил один, а я: «фыр, пыр, найду и не такого!» Ан не нашла! Молодость прошла без любви, без радости, да и сейчас одна, как перст.
— Неужто не были замужем, Устинья Петровна? — удивилась Соня.
— Не пришлось…
— У меня тетя тоже…
— Многих война без радости оставила. Побили наших женихов.
Механически продолжая делать одну и ту же работу, они молчат, погрузившись в свои мысли. Устинья Петровна думает о минувшем, Соня — о будущем.
6
Вадим не подозревал, что то разочарование, какое пережил он при встрече с Соней от ее сдержанности, чуть ли не холодности, гораздо раньше довелось испытать самой Соне. Он не догадывался об этом, потому что не видел, с каким нетерпением выхватила Соня у почтальона первое его письмо, как оторвала непослушными пальцами зубчатую кромку конверта и жадно впилась взглядом в неровные строки.
Он напрасно считал ее тогда девочкой. Школьный фартук, тонкие косички — все так… А сердце? Безбоязненно открывшись навстречу первому чувству, билось оно беспокойно и восторженно, ясно и ласково голубели Сонины глаза, трепетно вздрагивала порою полудетская рука в грубоватой ладони Вадима. Ничего не понял Вадим. Даже тогда, когда, преодолев застенчивость и стыдливость, поцеловала его Соня на вокзале.
А Соня ждала. Ждала, что, не сказав при прощании, напишет он в письме страстные слова о вечной любви и верности, и тогда… Нет, ничего не случится тогда, Соня понимала. Вадим по-прежнему будет служить, а она — кончать школу. И все-таки начнется совсем другая жизнь. Никто не будет знать о ней, кроме Вадима и Сони, никому и не надо знать, но все-все станет иным.
Первое письмо от Вадима пришло через три месяца после его отъезда. Соня похудела за эти месяцы, стала хуже учиться, особенно по математике. Ей скучно, тягостно было решать алгебраические уравнения, в то время как решалось и все не могло решиться самое главное в ее жизни. Ведь такое случается — Соня из книг знала, да и по себе чувствовала — такое случается в жизни только однажды.
С лихорадочной поспешностью читала она письмо, пропуская целые строчки, стараясь скорее дойти до тех слов… Прочитала до конца и… не поверила. Она была одна в квартире и стояла у холодного замерзшего окна, за которым уже сгущались сумерки. Машинально протерла пальцем дырку в ледяном покрове стекла, потом отошла от окна, включила свет, села за стол и перечитала письмо еще раз, медленно и не пропуская ничего. Доехал благополучно. Дорога очень интересная. Служить будет весело — есть хорошие ребята. Учись лучше: впереди десятый класс. Привет тете. И все.