Бурное лето Пашки Рукавишникова - Страница 6
Один раз в сутки эшелон надолго замирал. Он останавливался на какой-нибудь подходящей станции запылённый, пропечённый солнцем, усталый, как человек.
Пашка бежал вперёд к тепловозу. Иногда там оказывался паровоз или электровоз.
Больше всего Пашка любил паровозы.
— Паровозы любит! Почему? Консерватор ты, отсталый элемент, — дразнил его Володька.
А Пашка и сам не знал, почему. Может быть, потому, что они были такие огромные и казались самыми могучими. Было в них что-то такое, чего не хватало аккуратным, чистеньким электровозам и тепловозам — что-то живое, наверное, оттого, что паровозы ели и пили.
Маслянистые, попыхивающие паром, горячие, они пили воду из широченного высокого крана, который легко поворачивался на цепочке.
Иногда Пашке удавалось нырнуть под толстую тугую струю.
Вода тяжело попадала на голову, на плечи, и кожа сразу становилась огуречной, пупырчатой, как у гуся, а разомлевшее от жары тело лёгким, прохладным и крепким.
Пашка игогокал, отфыркивался, как морж, и бежал к своей теплушке.
А поезд терпеливо ждал, пока все пообедают.
Для того он и останавливался.
Ели на крупных станциях. Еда была всегда одинаковой, но почему-то не надоедала. Ого, как все ели! Такое увидишь не часто — прямо-таки за ушами трещало.
В столовой гудели сотни голосов, висел густой пахучий пар, звякали ложки. Пашке очень нравилось тут обедать. Он толкался у раздаточных окошек, глазел на румяных, запарившихся поваров в хрустких колпаках и белых куртках.
Сибиряки были как на подбор — курносые и белозубые.
Они балагурили с девчонками, посмеивались над аппетитом своих гостей и наваливали добавки без отказа.
Пашке-то и так хватало — во! от пуза, добавки ему не требовалось.
А вот тощий Володька — с ума сойти! — уплетал по две порции первого и второго, выдувал три кружки компота и говорил, маслено жмурясь:
— Эх, друг Пашка, теперь бы пообедать!
Пашка диву давался: куда только в него лезет — какой сядет плоский за стол, такой и встанет.
— Тебе бы, Володька, в цирке выступать, — говорил Пашка, питоном работать.
А Володька смеялся.
— Ты знаешь, как старинные люди говорили? Какой едок, такой и работник. Понял? Вот этого, — Володька кивал на Лисикова, — я б в работники не взял. Нет. Гляди, как он ест — смотреть тошно: поковыряет и бросит. Только добро переводит.
Лисиков молчал и недобро хмурился. После того, как он хотел донести на Пашку и ребята перестали с ним разговаривать, Лисиков сделался мрачным и тихим.
Пашке даже жалко его становилось временами.
Это же очень скверно и тяжело, если с тобой не разговаривают, не замечают тебя, будто ты отшельник-невидимка.
Тут уж самый золотой-раззолотой человек озлится.
Он сказал как-то Володьке об этом, но тот ответил:
— Э, оставь ты, Пашка, слюнтяйство! Нашёл кого жалеть. Мы этого голубчика не первый год знаем. Поначалу его даже старостой выбрали. Вот тут он нам показал, где раки зимуют. Его скинули. А он всё забыть не может, как в начальниках ходил. Всё покрикивать пытается.
Володька сотворил Пашке грушу: провёл большим пальцем по голове — от затылка ко лбу, хмыкнул и отошёл.
Но для Пашки это было не очень убедительно — всё равно он жалел Лисикова.
Если бы с ним, с Пашкой, такое приключилось?
Ого! Да он бы в лепёшку расшибся, а доказал, что он, Пашка, человек хороший, а никакой не доносчик.
Правда, такого с ним никогда не было, а Лисиков этот…
Но вот жалко почему-то.
Потому — затуркали человека.
Мало ли что! Может, Пашка ему просто не нравится.
Бывает же — не понравится один человек другому, и всё тут. Ничего не поделаешь. Называется ан-ти-па-тия. Есть симпатия, а есть наоборот.
Что ж его казнить за это?
Пашка, преисполненный благих намерений, попробовал даже заговорить со странным человеком Лисиковым, но нарвался на такой взгляд — тяжёлый и злобный, — что сразу передумал.
Расхотелось ему заговаривать.
И всё-таки Пашка чувствовал себя немного виноватым.
Он понимал, что это глупо, но поделать с собой ничего не мог.
И переживал.
Он хотел, чтобы в его новом, прекрасном доме на колёсах был мир и не было злобы.
А то получалось, будто до Пашки жили дружно, а потом он явился и всё испортил.
Тяжело было так думать, неприятно.
Пашка не верил, что люди могут быть совсем, окончательно плохие.
Конечно, он знал: люди бывают хорошие и поплоше, но Пашка считал, что любому можно стать хорошим. Он был уверен, что плохими люди бывают не навсегда, а временно.
Сегодня ты такой, а завтра глядишь — совсем непохожий.
И хоть Пашке Лисиков был не очень-то по душе, он искал случая с ним помириться.
И такой случай скоро подвернулся.
Ох, если бы Пашка знал! Если бы человеку можно было хоть на часок заглянуть в будущее…
Глава восьмая. Он любит мартовское
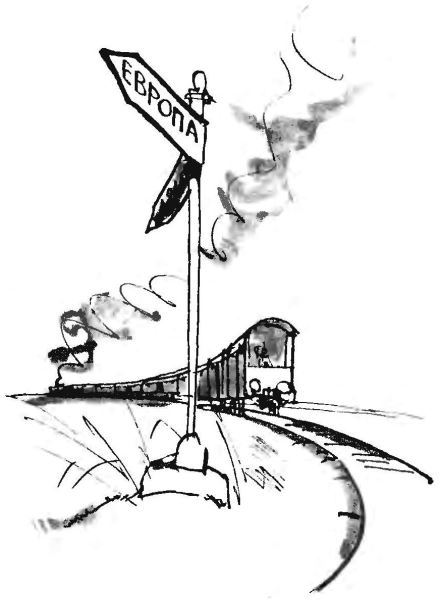
Время обеда ещё не наступило, а поезд почему-то остановился.
Станция была большая. За зданием вокзала виднелась широкая площадь и дальше дома, дома — огромный город.
Пашка выбежал на площадь. Город был залит солнцем, раскалённый асфальт податливо прогибался под кедами. Просто не верилось, что ты в Сибири.
«Какая же это Сибирь? Юг настоящий — во палит!» — думал Пашка.
Вчера утром всех разбудил дикий лязг. Володька с силой хлопал крышками котелков и орал:
— Проспали, проспали! Позор, позор! Зна-ете-кто-мы-те-перь?
В Володьку запустили башмаком, но он не унимался.
— Эх-вы-за-со-ни-не-о-бра-зо-ван-ные, — прогремел он, опустил руки и грустно спросил: — Что бы вы без меня делали, несчастные, сонные вы тетери? Вы даже не знаете, кто мы теперь есть.
— Ну кто? — спросил Пашка.
— Вот хоть один умный человек отыскался — интересуется. Азиаты мы теперь, вот кто. Были европейцы, а теперь азиаты. Границу проехали. Своими глазами столб видел. На одной стороне: ЕВРОПА, на другой: АЗИЯ — Дошло?
Ну, тут все мигом проснулись, накинулись на Володьку.
— Что же ты не разбудил, балда? Эгоист какой, видели?
— Вас разбудишь! Покойников легче разбудить. А я с ночи караулил. Потому как кто я? Образованный, мудрый, любознательный человек. Не вам, сусликам, чета, — ответил довольный Володька и завалился спать.
А потом целый день все обсуждали это событие, всем было жаль, что проглядели знаменитый столб.
Азия… Урал… Сибирь…
Пашка даже поёжился тогда. Ему показалось, будто ледяным ветерком потянуло от этих слов.
Сибирь… Слово-то какое — широченное, снежное.
А тут жара. Вот тебе и Сибирь.
— Эй, заяц!
Пашка повернулся и обомлел. К нему, улыбаясь, подходил Лисиков.
— Любуешься? — спросил он.
— Ага, — Пашка кивнул и озадаченно ждал, что будет дальше.
— Слушай, у меня к тебе просьба. Пива, понимаешь, до смерти хочется. А я дежурный сегодня. Купи мне, пожалуйста, бутылок пять. Вот тебе авоська и пятёрочка. Купишь, а?
Лисиков заглянул Пашке в лицо насторожёнными глазами.
— Да я… да отчего же, конечно. Я это… я с удовольствием куплю, — торопливо забормотал Пашка. — Давай.
Он взял деньги и сетку, хотел уже припустить через площадь, но вдруг спохватился.
— Сколько стоим? Я успею? — спросил он.
Лисиков ласково улыбнулся:
— Успеешь, успеешь. Там паровоз меняют и вообще… Я узнавал — час простоим. Только ты мне мартовское купи. Я мартовское, понимаешь, люблю.
Хорошо улыбался Лисиков. По-дружески. Лицо у него стало открытое и доброе.
Пашка счастливо улыбнулся ему в ответ и побежал. Уже на другой стороне площади он ещё раз обернулся. Лисиков сделал ему ручкой и зашагал к вокзалу, подтянутый и аккуратный.
«А неплохой ведь парень, — подумал Пашка. — И чего они взъелись… Поглядели бы, как он улыбается. А то привыкли, что он хмурый всегда. А отчего? Оттого, что затуркали человека, и всё».