Боуи - Страница 1
Саймон Кричли
Боуи
© Simon Critchley, 2014
© Луконина Т., перевод, 2017
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2017
© Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС»/IRIS Foundation, 2017
Мой первый сексуальный опыт
Позвольте начать с неловкого признания: за всю жизнь никто не доставлял мне большего удовольствия, чем Дэвид Боуи. Конечно, это наверняка многое говорит о качестве моей жизни. Поймите меня правильно. Приятные моменты были, иногда даже с участием других людей. Но если говорить о постоянном, неизменном удовольствии, повторяющемся на протяжении десятилетий, ничто и близко не сравнится с тем, что дал мне Боуи.
Как и для многих простых английских ребят, для меня все началось с выступления Боуи с песней Starman на легендарном шоу Би-би-си «Top of the Pops» 6 июля 1972 года; его посмотрело более четверти населения Британии. У меня прямо челюсть отвисла, когда я смотрел на это рыжеволосое создание, положившее женственную руку на плечо Мику Ронсону. Поразила меня не столько сама песня; шокировал вид Боуи. Это было потрясающе. Боуи казался таким сексуальным, таким искушенным, озорным и странным. Одновременно самоуверенным и уязвимым. В его лице было какое-то загадочное знание. Дверь в мир неизведанных удовольствий.
Через несколько дней Шейла, моя мать, купила сингл «Starman», потому что ей нравились и песня, и прическа Боуи (до переезда на юг Англии мама работала парикмахером в Ливерпуле и с убежденностью профессионала утверждала, что с конца 80-х Боуи носил парик). Я помню немного зловещий черно-белый фотопортрет Боуи на обложке, снятый снизу, и фирменную оранжевую этикетку RCA Victor на сингле-сорокапятке.
Сам не зная почему, оставшись наедине с нашим маленьким монопроигрывателем в комнате, которая называлась столовой (хотя мы в ней не ели – с чего бы, ведь там не было телевизора), я сразу же перевернул пластинку, желая послушать вторую сторону. Отчетливо помню свою физическую реакцию на Suffragette City. Явное телесное возбуждение от этих звуков было почти невыносимым. Думаю, эта песня была похожа на… секс. Не то чтобы я много понимал про секс. Я был девственником. Я еще ни разу не целовался, да мне и не хотелось. Но когда звуки гитары Мика Ронсона раскатились по моему нутру, я ощутил в теле что-то сильное и необычное, чего еще не испытывал. Где этот город суфражисток? Как мне туда попасть?
Мне было двенадцать. Жизнь началась.
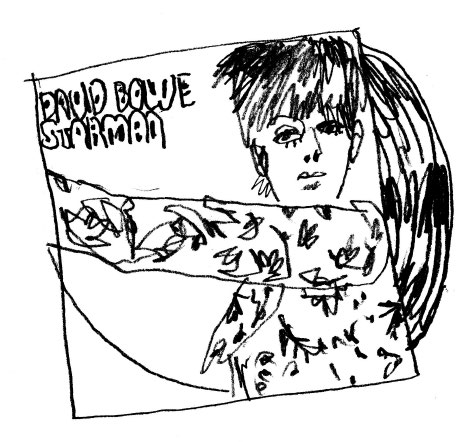
Эпизодические явления
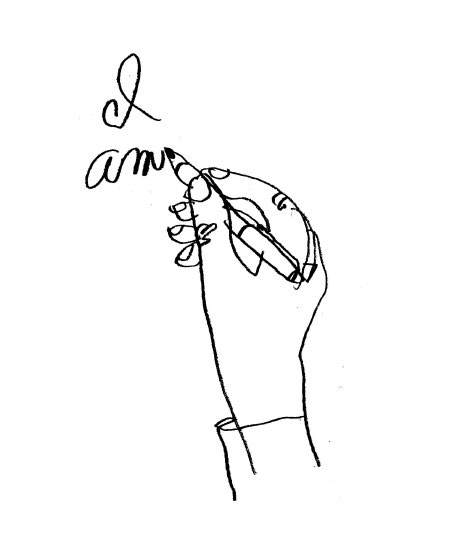
Есть такая теория, которую называют концепцией нарративной идентичности. Суть в том, что жизнь каждого человека – что-то вроде истории, с началом, серединой и концом. Обычно есть какие-то определяющие травматические переживания в детстве и кризис или несколько кризисов в середине жизни (секс, наркотики – подойдет любая зависимость), из которых герой чудесным образом выбирается. Кульминацией таких жизнеописаний, как правило, бывает искупление, за которым следуют развязка, и на земле мир, и в человеках благоволение. Жизнь индивида предстает как некое единство, когда он может рассказать о себе последовательную историю. Люди постоянно так делают. На этой лжи держится идея мемуаров. Этот же принцип – raison d’être[1] для внушительной части того, что осталось от издательской индустрии, которую кормит жуткий мир бульварной литературы, плодящейся на курсах креативного письма. Я, напротив, вслед за Симоной Вейль, верю в декреативное письмо, которое движется по спирали все возрастающего отрицания и приходит… к ничто.
Кроме того, я думаю, что идентичность – штука очень хрупкая. В лучшем случае это череда эпизодических явлений, но никак не грандиозное нарративное единство. Как утверждал Дэвид Юм, наш внутренний мир складывается из не связанных между собой «пучков восприятий», наваленных, словно кучи грязного белья, в комнатах нашей памяти. Возможно, поэтому метод нарезки Брайона Гайсина, когда текст нарезают ножницами и как бы в случайном порядке склеивают фрагменты (а Боуи, как известно, заимствовал этот метод у Уильяма Берроуза), оказывается гораздо ближе к реальности, чем любая вариация натурализма.
Эпизоды, которые образуют в моей жизни какую-то структуру, на удивление часто сопровождаются текстами и музыкой Дэвида Боуи. Только он складывает их во что-то цельное. Конечно, есть и другие воспоминания, другие истории, кроме этих эпизодов, и в моем случае все усложняет амнезия, вызванная серьезной производственной травмой, которую я получил в восемнадцать лет. Однажды у меня рука застряла в станке, и после этого я многое забыл. Но Боуи – мой саундтрек. Мой постоянный незримый спутник. И в радости, и в горе. Его и моих.
Самое удивительное, что я такой не один. Тех, кому Боуи дал почувствовать сильную эмоциональную привязанность – целый мир; он освободил нас, помог нам обнаружить других себя, более эксцентричных, более честных, открытых и интересных. Сейчас, оглядываясь назад, можно сказать, что Боуи был мерилом прошлого, его триумфов и триумфальных провалов; проверял и стал пробным камнем возможного будущего, более того – он требовал лучшего будущего[2].
Не хочу показаться напыщенным. В конце концов, я никогда этого парня не встречал – в смысле, Боуи – и сомневаюсь, что когда-нибудь встречу. (Честно говоря, не так уж и хочется. Я бы до смерти перепугался. Что ему сказать? Спасибо за музыку? Это уже ABBA какая-то.) Но я чувствую, что мы с Боуи как будто очень близки, хоть и понимаю, что это все сущие фантазии. Я также понимаю, что это коллективные фантазии, разделяемые огромным количеством преданных поклонников, для которых Боуи не просто рок-звезда или набор плоских медийных штампов о бисексуальности и тусовках в барах Берлина. Он тот, кто сделал жизнь чуть менее обыденной на очень долгое время.
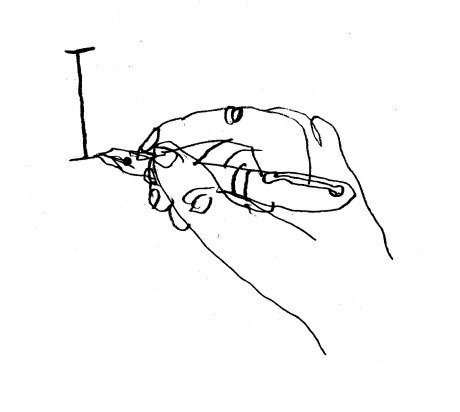
Скверный урок искусства[3]
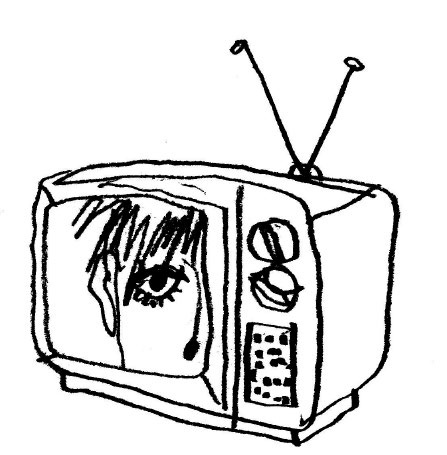
После того как в 1968 году Валери Соланас стреляла в Энди Уорхола, он сказал: «До того, как в меня стреляли, я всегда подозревал, что не живу, а просто смотрю телевизор. Теперь я в этом уверен». Меткий немногословный комментарий Боуи к этому заявлению Уорхола в одноименной песне с альбома «Hunky Dory» 1971 года предельно точен: «Энди Уорхол, голубой экран – никак их не различить» [Andy Warhol, silver screen / Can’t tell them apart at all]. Ироничный взгляд художника на себя и на свою аудиторию парадоксальным образом обнаруживает искусственность на все более сознательном уровне. Боуи нередко задействует эту уорхоловскую эстетику.
Невозможность различения Энди Уорхола и голубого экрана трансформируется у Боуи в постоянное ощущение, что он сам застрял в своем же фильме. В этом пафос песни Life on Mars?, в начале которой внимание «девочки с волосами мышиного цвета <…> приковано к голубому экрану». Но в последнем куплете обнаруживается, что сценарист фильма – сам Боуи или его лирический герой, правда, мы никак не можем их различить: