Ак-Чечек — Белый Цветок - Страница 2
Анна Гарф
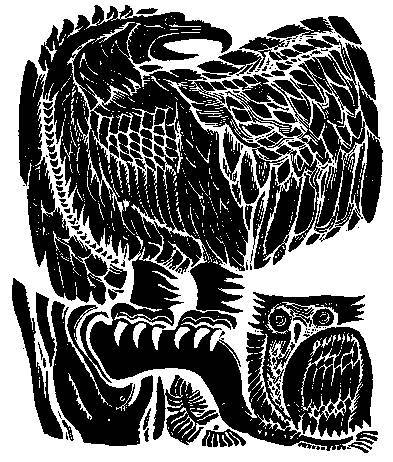
Дил-кель

В старину, в далекую старину, все птицы жили на юге, и весной на Алтае пели только реки.
Однажды эту весеннюю песню воды принес птицам северный ветер. Всполошились птицы:
— Кто гам поет, кто звенит, ни днем, ни ночью не умолкая? Какая радость случилась, какое счастье пришло на Алтай?
Однако лететь в неведомую землю было страшно.
Напрасно уговаривал беркут скворцов и трясогузок, дроздов и кукушек. Отказались пуститься на север мудрые совы, нежные зяблики, серые гуси, свирепый ястреб. Даже благородный сокол собраться в дорогу не решился.
И только маленькая синичка отважилась.
— Слушай! — крикнул ей вдогонку беркут. — Если там хорошо, возвращайся скорей, покажи всем птицам дорогу.
— Цици-вю, цици-вю, цици-вю! — засвистала синица. — Вернусь-вернусь-вернусь! Цици-фюйть! — и улетела.
Летела она над морями и долинами, над лесами и реками. Сначала спешила-торопилась, часто-часто перебирала крыльями, потом все медленнее, медленнее… Живот у нее озяб, крылья ослабели… И когда уж совсем обессилела, увидала холмистые алтайские горы. В лучах восходящего солнца Алтай стоял весь розовый. Сверкали, будто огнями переливались, покрытые льдом и снегом холмы, долины.
— О, какой большой костер, — сказала синичка, — уж лучше сгореть, чем замерзнуть…
Сложила она крылья и упала. Но не в огонь, а на снег.
— Ци-си-ци… — пискнула синица, — здесь, на снегу, смерть легко меня одолеет…
Но тут увидела она на голой ветке трещину, в трещине личинку, а рядом, завернутая в сто паутинок, спала маленькая гусеница.
Клюнула синица разок, клюнула другой, и сердце взыграло, живот согрелся, голова легкой стала. Посвистывая, перелетает синица с ветки на ветку — то ягодку прошлогоднюю склюнет, то паучка на согретом солнцем пне подцепит. С каждым днем цокает и поет все веселей. Забыла она, для чего сюда прилетела, кто послал ее в этот обильный край, где родилась, и то уже не помнит.
Но вот, однажды, вдруг зашатались деревья от ветра, почернело небо от птичьих крыл. Это явилось на Алтай птичье войско.
Впереди всех грозный беркут.
Опомнилась синица, испугалась. А беркут уже кружит над ней:
— Однако, ты тут не плохо живешь, как я погляжу! Одна всем северным лесом владеешь. Почему домой не вернулась? Почему никакой другой птицы сюда позвать не захотела?
Голову опустила синичка, даже хвостик не трепещет. Не знает, как оправдаться.
Тихо-тихо стало в лесу, и синичка услышала теньканье первой капели. Встрепенулась, спохватилась:
— Кланяюсь вам до земли, великий беркут! В этом краю лед в семь рядов лежит, снег из семидесяти семи туч падает. Я одна тут с зимой спорю, весну зову: «Дил-кель! Дил-кель! Весна, приди! Весна, приди!» Это по моей просьбе теплый ветер подул, белый снег потемнел. Сама за вами лететь собиралась, да недосуг: «Дил-кель! Дил-кель! Весна, приди, приди! Цици-вю, цици-вю! Цок-цок-цок! Цици-фюйть!» Слушайте, слушайте, великий беркут, смотрите, смотрите!
Опустился беркут на голую вершину лиственницы, кругом посмотрел.
— Дил-кель! Дил-кель! — звенела синица. — Весна, приди!
И там, где слышалась эта песенка, снег таял, просыпались ручьи и реки, наливались на деревьях тугие почки.
— Ладно, — засмеялся беркут, — на этот раз прощаю тебя, легкая головушка. Через год видно будет, правду ли ты говоришь.
Вот с тех пор, чтобы обман не раскрылся, синица раньше всех в лесу начинает свою весеннюю песнь, а за ней запевают и другие птицы.

Малыш Рысту

Далеко-далеко, там, где небо с землей сливается, на подоле синей горы, на берегу молочного озера жил мальчик. Ростом он был с козленка. Из двух беличьих шкурок мальчик сшил себе шапку, из козьего меха — мягкие сапожки. Лицо у него было, как луна, круглое, и он никогда не плакал.
Язык птиц и зверей мальчик хорошо понимал, пчел и кузнечиков внимательно слушал. Он и сам то зажужжит, то застрекочет, то как птица защебечет, то зажурчит, как родник. Дунет мальчик в сухой стебель — стебелек поет, тронет мальчик пальцем паутинку — она звенит.
Вот однажды ехал мимо молочного озера хан Ак-каан верхом на белом коне. Услыхал Ак-каан нежный звон.
«Это не птица поет, не ручей бежит», — подумал хан.
Перегнулся он через седло, раздвинул кусты и увидал круглолицего мальчика. Малыш сидел на корточках, дул в сухой стебель, и стебель пел, словно золотая свирель.
— Как тебя зовут, дитя?
— Мое имя Рысту-Счастливый.
— Кто твой отец, где мать? Кто тебя кормит, кто поит?
— Отец мой — синяя гора, мать моя — молочное озеро.
— Хочешь быть моим любимым дитятей, Рысту? Я сошью тебе соболью шубу, дам тебе проворного иноходца, подарю серебряную свирель. Садись, малыш, на круп моего коня, обними меня покрепче, и мы помчимся быстрее ветра к моему белому шатру.
Рысту прыгнул на круп коня, обнял хана Ак-каана, и конь помчался быстрее ветра.
Было у хана двое детей: сын Кёз-кичинек и дочь Кара-чач.
Услыхали они ржанье коня, выбежали навстречу отцу, стремя поддержали, коня расседлать помогли.
— Что ты привез нам, отец?
Хан Ак-каан схватил Рысту за шиворот, поставил его перед своими детьми:
— Вот какой привез вам подарок! Дайте ему мою серебряную свирель, и он будет играть вам свои песенки и днем и ночью.
Но Рысту играть на серебряной свирели не захотел. Он от обиды слова вымолвить не мог.
— Не хочешь моих деток потешить? — рассердился хан. — Будешь, непокорный мальчишка, мой белый скот пасти!
И вот днем без отдыха, ночью без сна перегонял Рысту с пастбища на пастбище ханские стада, искал, где трава слаще, где вода чище. Летом солнце нещадно малыша жгло, зимой мороз пробирал до костей. Мягкие сапожки его скоробились, легкая шубенка присохла к плечам, глаза научились плакать.
Но никто ему слез не отер, никто с ним не заплакал.
Однажды зацепился малыш сапожком за сухой корень, споткнулся и упал лицом в траву. А встать не может, ослаб…
Лежит он и слушает, о чем шмели жужжат, о чем муравьи беседуют.
— Когда этот мальчик на синей горе жил, он плакать не умел.
— О чем же теперь плачет он так горько!
— Ноги его стертые болят, руки его натруженные устали.
— Да, тяжело ему день и ночь за стадом ходить.
— А сказал бы он, как перепел детям своим говорит: «Пып!» — и коровы, как перепелята, не сдвинулись бы с места.
— А крикнул бы он, как коростель кричит: «Тап-тажлан!» — и коровы поиграли бы с ним на лугу.
— Пып! — молвил Рысту по-перепелиному.
Коровы тут же легли.
— Тап-тажлан!
Коровы поднялись с травы, плясать начали.
Теперь малыш опять повеселел. Он сидел на берегу реки и щебетал, играя с береговыми ласточками. А коровы песни пели и плясали на лугу.
Узнал об этих забавах хан Ак-каан, как туча, посинел, как гром, загремел:
— Коров пасти не хочешь? Будешь масло сбивать.
Поставили малыша к большому чану с молоком, дали в руки длинную палку-мутовку и заставили крутить ее день и ночь. Руки мальчика отдыха не знали, сомкнуть глаза он ни на миг не смел.
Семья хана, его гости, даже слуги ели лепешки с маслом, а малыш Рысту и сухой лепешки никогда не видал.
— Хочешь — угощу? — засмеялась Кара-чач. — Сыграй на серебряной свирели! Вот лепешка, вот свирель.
— Это я принес свирель! — закричал Кёз-кичинек.
— Нет, я! — крикнула девочка и вцепилась брату в волосы.